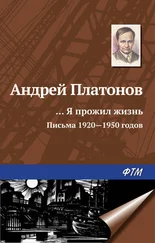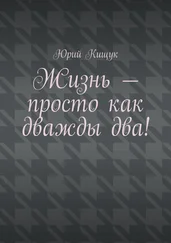Ты понимаешь: женское счастье и конфеты?
Жизнь состоит из мелочей, как море из капель воды, думал Василий Петрович. Песчинки… клеточки… Что я сегодня? Читал газету, штопал носок, прогуливался… Сегодня среда, наш день… Брился я или нет? Да, еще ворчала: ишь, как перед зеркалом красуется, словно юноша, к ней собираешься? Умру, но тебя не отдам… Не отдаст? Почему? Чтобы быть, как другие, чтобы об руку ходить по улице со своим собственным мужем. Мой! Муж, холодильник, рояль, телевизор, дом, пес. Не люби, но на людях будь, как все, ты слышал, как наш бухгалтер — «ласточка», «душечка». А дома? Два лица: одно — для людей, другое — для себя. Несколько масок для разных жизненных ситуаций. Не забудь: мы приглашены в восемь часов к Ивану Даниловичу, ах, боже мой, почему ты напустил на себя такой официальный вид, ведь мы идем не на заседание ученого совета, на день рождения моего начальника. Будь добр, сию же минуту преобразись.
— А-а-а, здравствуйте, Василий Петрович, как жизнь?
Ну и везет же мне на приятные встречи!
— Извините, товарищ бухгалтер, я тороплюсь… на собрание.
— Вы по Воссоединению? Пойдемте, мне все равно куда. Вы не слыхали?
— Нет, не слыхал.
— Говорят, наш добрый друг Клим Климович поехал защищать кандидатскую. Собственно, я не могу поверить. Вы знаете его возможности?
— Нет, не знаю.
— Кажется, он экономист.
— Кажется.
— Интересная наука. Я, верите ли, умею понимать язык цифр. Курите, Василий Петрович?
— Спасибо, не курю.
Сейчас удивится, словно никогда не слышал.
— Да что вы говорите, Василий Петрович?.. Вы же когда-то одну за другой…
— Было. Прошло.
— У вас есть сила воли… Простите, Василий Петрович… но ведь мы мужчины: правда ли, будто у вас… тут женщины на работе… Будто бы с женой у вас… Простите мне, ради бога, мою бестактность, я просто по-дружески. Ведь ваша жена у меня работает… понимаете…
— Уж если вы, бухгалтер, что-то слышали, значит, точно, что-то есть.
— Шутить изволите, Василий Петрович?
— Мне не до шуток, по крайней мере сегодня. Сейчас…
— Я прошу извинить меня, что вмешиваюсь в ваши, так сказать, семейные…
— Пожалуйста, продолжайте.
— Я считаю, что общественность, так сказать, не может стоять в стороне, наша святая обязанность вмешаться, во всяком случае, я так понимаю свою роль в обществе.
Попроси дурака хлеба нарезать, так он и палец отхватит, ждет, чтобы в газете похвалили: дескать, герой, не стоял в стороне, вмешался. Спасибо, а теперь пошел ко всем чертям, в печенках сидишь…
— До свидания.
— Вы простите, ради бога. По правде говоря, мне с вами не по пути, но я не могу оставаться, так сказать…
— А вы встаньте вот здесь и кричите на всю улицу.
Осел, а между тем разбирается. Какая там любовь? Первая заповедь обывателя: соблюдай добропорядочность, следи за чистотой верхней одежды, главное — внешний вид… Ведь существуют же этакие философы, которые рассуждают: как можно терпеть такую частную собственность, как семья? Давайте ее обобществим… Не проще ли совать свой длинный нос, пусть даже через замочную скважину, в чужие супружеские постели. Не пережитки ли это: я сам по себе, и не дышите над моим ухом, и семья — это моя семья, не ваша. Как не наша? Все наше!
И снова мысль вернулась к той самой «их среде». Он стоял, положив на ее плечо руку, и чувствовал, как сильно билось ее сердце, на блузке были маленькие белые пуговицы, пять пуговиц, они расстегивались совсем легко, а она молчала.
Осколок сбил туфли вместе со ступнями, второй осколок снял поношенную юбку (смотрите, смотрите!), И сорвал с плеч блузку, а под блузку война ничего не надела: ни сорочки, ни бюстгальтера (смотрите, смотрите!). Снял осколок с плеч и девичью голову…
Не отворачивайтесь, это же для кого-то привычное зрелище, как стриптиз.
Правда, не на сцене, освещенной прожекторами, не в фешенебельном баре в центре Парижа.
Здесь светит пламя пожаров. И кому-то это нужно, иначе во имя чего бы ей, такой молодой, снимать с плеча золотоволосую голову.
Быстро застегнул все пуговицы и лег рядом, лицом вверх. Сквозь реденький шатер из ветвей акации просвечивалось синее небо. Много-много гектаров немереного неба с жаворонками, аэростатами облачков, с ласковым в хорошую погоду и гнетущим в засуху солнцем. Вспомнил Болконского из «Войны и мира» и мятежные чувства охватили его.
(«Над ним не было ничего уже, кроме неба — высокого неба, не ясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками… «Как же я не видал прежде этого высокого неба?»
Читать дальше


![Юрий Романенко - Взгляд через годы [Южная железная дорога за 130 лет]](/books/35651/yurij-romanenko-vzglyad-cherez-gody-yuzhnaya-zheleznaya-d-thumb.webp)