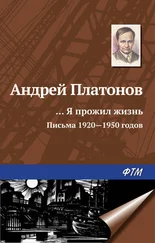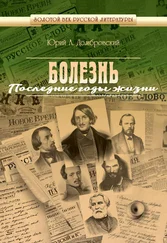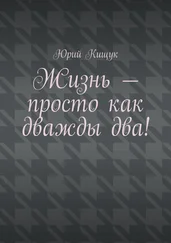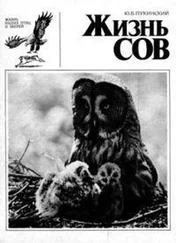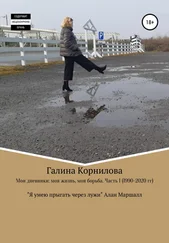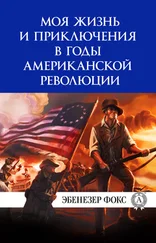«Сумей одолеть свою слабость, — думал он, мысленно продолжая спор с Сидоряком. — А может быть, я как раз в тот момент и одолел слабость, когда решил перечеркнуть прошлое, строить счастье с другим человеком. Где сила, а где слабость — кто скажет? Иван Иванович или, может, дядька Иван?»
То, что он адресовался к двум разным людям, носившим одно имя, — к Ивану Ивановичу, бывшему соседу, и к дядьке Ивану, с которым судьба свела его в лагере, невольно проводило какую-то общую черту схожести между этими двумя людьми. Правда, тогда и подозревать не мог, что годы сотрут между этими людьми всю разницу и оба они отформуются в каком-то одном общем образе — Человека. Того человека, который возьмет его, Антона Петровича, на поруки перед судом памяти, объединившей в одном лице учителя, судью, соавтора…
А на сцене продолжала оживать легенда.
Черная туча, молнии, резкие порывы ветра. Исчезают в темноте люди, только Гнат Павлович Онежко, играющий оскорбленного человека, остается на полянке. Его накрывает темная тень, и уже из темноты слышен крик Чернокнижника: «Брат, пощади!» И вопль смертельной агонии: «О-о-ой!..»
Первые лучи рассвета пробивают черные тучи. В этих лучах над трупом стоит с искаженным лицом Онежко, окровавленный нож выпадает из его ослабевшей руки. Упавший нож производит такой грохот, что все вздрагивают, приходят в себя и начинают громко восславлять своего спасителя.
А тот стоит словно окаменевший, смотрит на чудодейственную золотую корону, упавшую с головы убитого и валяющуюся в пыли. Корона, дающая силу… Она ничья… Что ему делать? Подобрать?..
Сцену борьбы человека с самим собой Гнат Павлович Онежко играл с глубокой психологической достоверностью. Это именно он настоял на серьезной трактовке образа, вопреки несколько водевильному замыслу Антона Петровича.
— Не должно быть и тени насмешки над легендой, — говорил Онежко. — Наивность — это хорошо, но никакого своеволия, панибратства с историей и тому подобное… По-моему, появилась легенда как жанр еще на очень низкой стадии общественного развития, и все, о чем в ней говорилось, воспринималось современниками как реальность, а реальность следует трактовать серьезно. Вы меня поняли?
Спорить с Онежко, да еще после того как он, явно издеваясь над своими противниками, пародировал отдельные монологи своего героя, было невозможно. Антону Петровичу пришлось проглотить обиду, а когда Онежко, мгновенно перевоплотившись, эти же монологи передал в своей трактовке образа, Павлюк решил: действительно резонно!
Именно в этом ключе образ обретал глубину, заставлял задумываться, решать: кто ты, Человек? В чем сущность твоей эволюции от эпохи легенды к твоим легендарным творениям? А как раз это, по замыслу Антона Петровича, должно было стать лейтмотивом драмы.
На сцене появляется Жрец в длинной черной одежде, нарочито стилизованной под современную одежду священнослужителя, склоняется над короной и говорит, обращаясь к Мстителю:
«Своей силой и отвагой ты поднялся над всеми, и эта корона принадлежит тебе. Тебе же надлежит вести этих людей в страну, где царствует любовь».
Детский страх на лице онежковского героя… Ведь он в одно мгновение стал властелином, из никого в один миг стал всем. И у него в глазах детски-наивный вопрос: что же я сделаю, обладая такой силой?
А вокруг — уже праздник… Люди обнимаются, смеются, поют, поздравляют своего спасителя, а тот стоит в позе витринного манекена, и постепенно на его красивое, мужественное лицо наплывают порождаемые властью черты высокомерия, уродуют его…
Онежко, исполнявший эту непростую роль, и сам был человеком сложного характера и сложной судьбы. Он пришел в театр в форме танкиста, сперва его преследовали неудачи, а потом вдруг кривая его актерской биографии взметнулась вверх и дотянулась до славы заслуженного артиста республики.
Жил он на окраине города, в особняке, о котором Антон Петрович боялся вспоминать, и долго не решался переступить знакомый порог уютной комнаты. Там все было связано с н е ю. Набежали на глаза слезы, когда он снова увидел все после долгих лет отсутствия; чувствовал себя скованно. Онежко обижался, однако, со свойственной ему деликатностью воспитанного человека, говорил:
— Я вас понимаю: писатели — люди слишком чувствительные, но все же не прячьтесь. Разделенное горе — только полгоря.
— Ах, о каком горе может идти речь? Война уже кончилась. А муки творчества — не горе…
Читать дальше
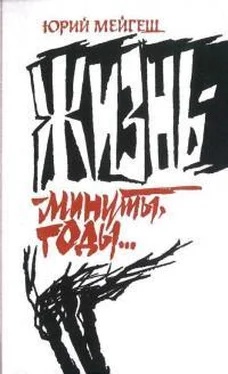
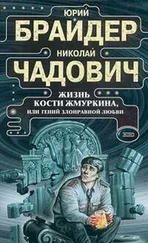
![Юрий Романенко - Взгляд через годы [Южная железная дорога за 130 лет]](/books/35651/yurij-romanenko-vzglyad-cherez-gody-yuzhnaya-zheleznaya-d-thumb.webp)