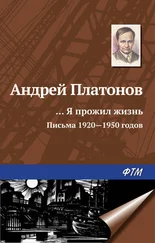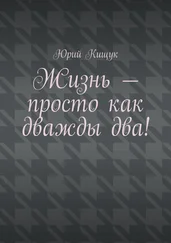— Я всегда говорил, что ты геройский парень.
— Меня никто не уважает, меня просто никто не хочет замечать.
— Хочешь, чтобы тебя замечали, бросайся на всех, рычи на каждого. В тени держаться не следует. — Говорил как будто чистосердечно, а на самом деле тонко колол, мстил ему за криводушие.
— Давайте до дна, Василий Петрович. Я сегодня в последний раз.
— Мы всегда делаем все плохое в последний раз.
— А ты мне нравишься, Василий Петрович, — не слушая его, продолжал говорить Титинец. — Я завидую тебе, завидую, потому что ты умеешь делать все по-настоящему, как мужчина. Не смейся, я тебе больше скажу: настоящая любовь — это героизм:
Ах, Джульетта,
Зачем же и теперь ты так прекрасна?
Подумать только, что в тебя влюбилась
И смерть бесплотная…
Гавриил Данилович говорил артистично, и в ночной тишине это звучало трогательно. Шестич не вникал в смысл его слов, он лишь поддался внешней патетике, но на глазах выступили слезы, а сознание того, что он начинает плакать, будоражило его захмелевшую голову, захотелось выкинуть что-то озорно-трогательное. Обеими руками он сгреб Титинца, притянул к себе и поцеловал в губы, а потом резко оттолкнул и крикнул:
— Гадюка ты! Ну, черт с рогами.
— Красивой любовью можно восхищаться, как произведением искусства. Это самое лучшее искусство… Скажи, ты мог бы убить из ревности?
— Запросто! — ответил Шестич.
— Вот видишь… А сейчас хотят — по дешевке. Полная деградация отношений двух полов. В средние века рыцарь говорил: за один взгляд любимой отдаю жизнь. А сейчас пижонишко захудалый и тот нос задирает: поставишь поллитровку, тогда приду.
— А ты, Гавриил Данилович, любил когда-нибудь?
— Сумасшедше! Я был молодым, институт закончил, а ей было больше сорока… Я оказался просто-напросто слепцом.
— В таких случаях, вероятно, каждый слепец.
— Кое-кто слепнет после того, как встретил, кое-кто слепым встречает, а это — разница. Я лишь со временем понял, что моей Галины Анисимовны в действительности не было. Я ее сам создал, из простой обычной женщины. Я сотворил для себя чудо и становился перед ним на колени. Ну, после этого, Василий Петрович, скажи, что мы не боги! Такое можем создать, что сами перед своим творением становимся на колени. Я так размышляю, что задолго до того, как всевышний смастерил нас с тобой, у него уже давным-давно на коленях были мозоли, — закончил Титинец и громко рассмеялся.
Однако Василий Петрович никак не реагировал на его смех. Титинец вздохнул и добавил с грустью:
— Любовь делает чудеса.
(Милая, я хочу, чтобы ты была моим ангелом.
Я твой ангел.
Милая, я хочу, чтобы солнцем ты стала.
Я твое солнце.
Милая, я хочу, чтобы стала ты счастьем моим.
Я твое счастье.
Милая, я хочу, чтобы стала ты горем моим.
Я твое горе.
Милая, будь для меня всем, всем, всем.
Я есть все для тебя, пока любишь.)
А высоко в небе летели на юг дикие утки, тихо курлыкали. Гавриил Данилович пошел в буфет за новой бутылкой вина и застрял у стойки. Ему было неловко за свою мальчишескую выходку, за хвастовство, в котором, кроме пустой, глупой выдумки, ничего не было. «Я вам так и скажу: теплая и сытая зимовка». Домой идти он не решался, зная, что не сможет заснуть, а возвращаться к Василию Петровичу ему уже было неинтересно. Он сказал, обращаясь к самому себе: «Дур-рак ты, Гавриил, да и никто не научит тебя уму-разуму, уж если родители недодали, то у чужих не разживешься».
Снова к Василию Петровичу, как всегда неслышно, подошел официант и спросил:
— Будете еще заказывать? Мы скоро закрываем.
— Позвоните ей, пожалуйста.
— С удовольствием. Что сказать?
— Что хотите… Скажите, что я пьян.
— Да что вы, не надо.
— Скажите, что мы будем здесь не одни, что здесь все юродивые… Что здесь прекрасное место, никто не раздражает, не осуждает…
— У вас сегодня хорошее настроение.
— Меня премировали за отличную работу.
Он обхватил голову руками, прикрыл глаза и снова увидел ее.
Лоб покрыт был испариной, зацелованные губы пестрели остатками губной помады и были очень бледны. Все так же забавно торчала пуговка носа. Он обратил внимание на то, что вся она была какая-то другая, обновленная. Сегодняшняя. Тонкая верхняя губа, крапинки веснушек на носу, ровные линии бровей… Такою он ее еще никогда не видел. Бледной, изможденно-прекрасной. Попытался представить ее той, прежней, которая еще не была Калинкой. И не мог. Всё было невыразительным, расплывчатым, ее лицо терялось среди тысячи других лиц. Обычное женское лицо, выхваченное из общей массы лиц, чтобы снова смешаться с ними. Сейчас он смотрел на нее и не узнавал. В каждой черточке ее милого лица была удивительно трогательная усталость брачной ночи. Не удержался и легонько поцеловал ее в губы. Она мгновенно проснулась. «Где я?» — спросила встревоженно.
Читать дальше


![Юрий Романенко - Взгляд через годы [Южная железная дорога за 130 лет]](/books/35651/yurij-romanenko-vzglyad-cherez-gody-yuzhnaya-zheleznaya-d-thumb.webp)