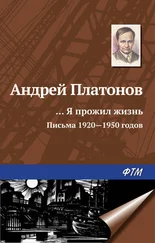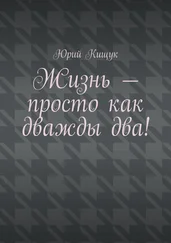Как хорошо, когда остается только любовь!
Солнце легло своими закатными лучами на траву, и она зарумянилась душистыми румянами, лишь небольшой кусочек золоченой дуги какое-то мгновенье выглядывал из травы, как притаившийся любопытный мальчишка. Прошло несколько минут, и солнце скрылось за верхушками деревьев. Стало сумеречно и неуютно.
— Нам, пожалуй, пора, милый.
Вскоре в чаще совсем потемнело, стало по-лесному таинственно и страшновато: земля сбросила с себя дорогие одежды, сбросила зеленую шелковую сорочку, и обнажилось уродливое тело, корявое тело состарившейся кормилицы. Все утратило обычную реальность, утратило витринное, показное. Все двинулось к ночи в своем обнаженном первозданном виде, шло босиком, без лифчиков и корсетов, без каких-либо примет цивилизации. Двинулось к теплым пещерам, к тлеющим кострам палеолита. Светятся где-то в космической туманности галактики, и сиротами блуждают по черной вечности вымпелы землян, в миллионный и миллионный раз совершает Земля по своей очерченной орбите удивительный круг, миллионный и миллионный год вписывает в метрику человека, а он идет к своей первобытности, к звериной шкуре, к дыму первобытного костра, к грубому удовлетворению инстинкта, к пожарищам модернизированной эпохи… Любишь? Люблю! Убьешь? Убью!.. Пятьдесят миллионов!!! В одну ночь!!!
— Мы идем неверной дорогой, милый. Тебе не кажется, что мы идем не в том направлении?
— Мы у пня свернули влево.
— Лучше вернемся.
— Внизу должна быть дорога.
— Но впереди ничего не видно.
— Все равно где-то там дорога.
В лесу было холодно, потягивало продрогшим в темных чащах ветром, ее начало знобить, он снял с себя джемпер, и она натянула его на себя через голову, благодарно прижалась к нему, а он обнял ее и почувствовал под пальцами гармошку ее тонких ребер. Ночь разумно прикрыла глаза, но шла рядом с ними, прислушиваясь к их истощающему счастью, стучала по обочинам посохом, неся на немытых ступнях путницы пыль седой древности.
— Умру…
Шелестели в ужасающе непостижимом движении галактики, высекали далекие молнии, от которых по небу летели искры, осыпаясь на землю фосфоресцирующим пеплом.
— Видишь, милый, какой прекрасный звездопад!
— Я, признаться, сейчас ничего не вижу.
Земля остывала, увлажнялась росой, и это было совсем некстати двоим, выбиравшимся из леса.
— Как же ты не видишь такой прелести?
— Я вижу только тебя.
— А если бы меня не было? Совсем, никогда!
Искра переполовинила небо, резанула по нему, как острие ножа по темной корке арбуза, и расколола, даже хруст был слышен.
— Все равно я видел бы только тебя. Может быть, ты звалась бы Еленкой, Калинкой, а, может, Мавкой или Маричкой, все равно это была бы ты. Я встретил бы только тебя.
— Куда мы идем, милый?
— Вон туда.
— Там ночь.
— Да, короткая летняя ночь.
— Люди всегда верят, что ночь скоро кончится.
— Ты устала?
— Нет. Идем вон туда.
— Там что-то яснеет! Видишь!
— Вижу.
И небо и земля были черными, в глухой ночи шастал ветер, черным пологом занавешивал над ними звездный мир, чтобы свет не мешал людям уйти в себя, в свою тайну.
— Видишь?
— Уже близко.
Они шли через лес, через росистые поляны, брюки внизу хлопали по ногам, прилипали к икрам. Они шли на буксире своей надежды, прочно пришвартованные к ней грубой веревкой.
(В темноте веков пунктирные следы на синем глобусе планеты — вдоль, поперек, накрест! Планета вся истоптана следами искателей.)
— Видишь, вон там! — сказала она радостно.
(Колумбы, Магелланы, Куки, Беринги… Через сетку меридианов, через экватор, через параллели… И у каждого — что-то. Сан-Сальвадоры, Индии, безымянные острова, золото ацтеков, далекие планеты… Но в конце концов где-то же сойдется с землей край неба, оборвутся море и суша, и останется неискомая отравленная стрела филиппинца, страшная цинга, деревянный крест на скалистых Командорах, могильный холмик в вечной мерзлоте Шпицбергена, мелкий штрих на скрижалях истории… А живых снова арканит с в о я Надежда, лишающая покоя и сна.)
И вот они вышли на дорогу.
— Где мы?
— Не знаю.
— Товарищи, будем голосовать… Кто «за», прошу поднять руку… Все… Все… Раз… два… три… Анна Андреевна, вы «за»? Поднимите выше… Два, три, четыре… Вы, Кирилл Михайлович?
— Против!
— Что значит — против? В конце концов, вы тоже член коллектива, или, может, вам не по дороге с коллективом?
Руки поднимались не очень дружно, вразнобой, с колебаниями, будто бы дотрагивались до плеча незнакомого человека, каждый оглядывался на соседа. Семен Иосифович досчитал до тринадцати, а когда Иван Иванович сказал: «Я против», — наступило гнетущее молчание, еще через какое-то мгновение число рук заметно уменьшилось. А после голосования выходили быстро, словно от кого-то прятались. На улице растекались группками в разные стороны и разговаривали откровенно.
Читать дальше


![Юрий Романенко - Взгляд через годы [Южная железная дорога за 130 лет]](/books/35651/yurij-romanenko-vzglyad-cherez-gody-yuzhnaya-zheleznaya-d-thumb.webp)