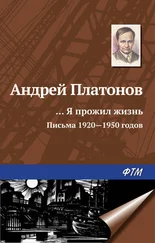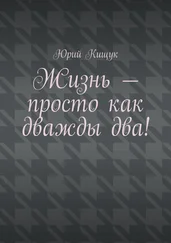— Миллионолетние, — подумал о них вслух Антон Петрович. — Это уже зрелый возраст, и ошибаться тут негоже…
Он смотрел вниз, на сцену, а мысли забегали далеко вперед, заглядывая туда, где господствовала только фантазия. Прикрывал глаза, чтобы не вносить туда знакомых, таких обычных людей. Но люди со сцены силой врывались в воображаемое будущее. Онежко, Рущак, Сидоряк, Леся… — все были в завтрашнем дне, в еще не созданном мире, но уже обживали его своими человеческими законами, своими характерами. Двадцатое столетие устраивалось в новом мире…
Антон Петрович спохватился: а может быть, в пьесу надо ввести разговор о будущем? Например, диалог Сашка с Татьянкой… разумеется, в ролях…
О н а. Когда сын вырастет, мир будет совсем не таким, как наш…
(У Татьянки на руках ребенок, и они рисуют в своем воображении его будущую судьбу.)
О н. Ты можешь его представить?
О н а. Обновленная земля с новыми людьми…
О н. С коммунистическим строем жизни.
О н а. Да…
Антон Петрович прервал воображаемый диалог Татьянки и Сашка, потому что это уже смахивало на его примирение с их решением.
Вид кресел в пустом зале, которые будто встали плечом к плечу, чтобы преградить путь к прошлому, только что вынырнувшему и жившему на сцене, направил мысли автора уже в иное русло:
«Люди тоже должны встать вот так же, плечом к плечу. Человек к человеку, народ к народу, материк к материку. Объединенная сила миллиардов; черный, белый, желтый — все в едином порыве: раз-два, взяли! раз-два, взяли! И чтобы у каждого чубы помокрели, тогда и у природы тоже голова покроется потом и она скажет: «Чего вы хотите? Богатства недр? Дна океанов? Да берите, пожалуйста, разве мне этого жаль? Только не воюйте, не уничтожайте!»
Следовательно, так… Берите. А какая-то часть людей заняла сцену и говорит: нет! «А мы все же поженимся!»
Антон Петрович хлопнул себя по колену ладонью и, вставая с кресла, проговорил:
— Да что это я?! Ну и пусть!
Его и раздражало, и удивляло то, что мысли постоянно переносились к сыну, и он никак не мог размежевать свою и его юношескую судьбу, словно они получили ее одну на двоих.
Решил позвонить по телефону на всякий случай жене, но, когда спустился вниз и уже поднял телефонную трубку, вдруг засомневался — не представлял, о чем будет говорить с ней. Сидел в кресле и держал приложенную к уху трубку, в которой монотонно и громко гудело. Наконец набрал номер и сказал:
— Это я.
— Что-то случилось?
— Нет… Что-то хотел сказать… И, понимаешь, забыл.
Жена рассмеялась:
— Ой, муженек, это уже склероз. — И добавила серьезно: — Не задерживайся. Помнишь, какой сегодня день?
— Какой? — переспросил он.
Она, видимо колеблясь, помолчала несколько секунд, а потом сказала:
— А-а-а, это звонила дочь: приезжает.
— О! Это хорошо! — чуть ли не выкрикнул от радости Антон Петрович. И тут же вырвалось: — Я тебе тоже кое-что должен сказать…
— Что же?
— Да, собственно, ничего… Приду домой, расскажу…
— Ты что-то не договариваешь… Не молчи. Может, с Сашком что-нибудь?
— Гм… да, с ним. В театре подошел ко мне и заявил: женюсь!.. Представляешь?
Жена вздохнула, снова помолчала и сказала:
— Ах, как годы летят! Уже и сын взрослый…
Антон Петрович вдруг вспыхнул:
— Взрослый!.. Прошел войну, концлагерь… голодал, мучился, как мы… Взрослый… — И он внезапно смолк, почувствовал разлад с самим собою. Потом пробормотал: — Извини, я сегодня в скверном состоянии…
— Ну, ну, ладно, я чувствую… Не задерживайся…
После разговора с женой, отнесшейся очень неопределенно к намерению сына, уже не хотелось возвращаться в зал. Он сел на спинку кресла и посмотрел в окно, находившееся в самом конце узкого коридора. Там, как на экране, двигались люди, шли по каким-то своим делам, занятые своими заботами. У него же вдруг словно все остановилось, закончилось. И сказал самому себе:
— Ну что ж… — и усмехнулся, сам не зная чему.
Автобусом выбрался на окраину города, чтобы немного рассеяться. «Что это я в самом деле?! Неужто я не верю в то, что можно и без меня стать взрослым? Тогда зачем же я целыми годами мучился над всем этим?..»
Солнце прислонилось к Замковой горе, подрумянилось. Земля пахла влагой, выпускала на свет первую зелень. Лужок над рекой смахивал на вышитый ковер — пестрел белым мелкоцветьем, а вода в реке была зеленой, как трава.
— Ну что ж, — снова проговорил он вслух.
А по ту сторону реки шумел город, колыхал в своей зыбке человеческие радости и тревоги, такие загадочные и такие простые, что Антону Петровичу казалось, будто он может истолковывать их облегченно: «Я — в различных вариациях». Правда, теперь это выглядело уже наивно, по крайней мере в соотношении с той загадкой, которую загадал ему Сашко.
Читать дальше


![Юрий Романенко - Взгляд через годы [Южная железная дорога за 130 лет]](/books/35651/yurij-romanenko-vzglyad-cherez-gody-yuzhnaya-zheleznaya-d-thumb.webp)