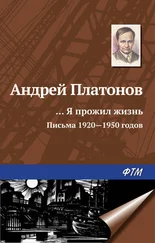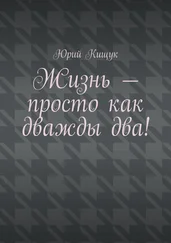— Да что это вы все, ей-богу?!
— Видимо, потому, что живешь среди всех.
Антон Петрович раскурил сигарету. Спичка слегка дрожала в его руке и, сгорая, обугливалась тоненькой черной закорючкой.
— Иван Иванович… — Теперь дрожала в пальцах сигарета. — Поймите…
— Попытаюсь, — сказал спокойно Сидоряк.
Однако Антону Петровичу нечего было говорить. То, что было наготове, не отвечало его истинному душевному состоянию. Вернее, он и сам не мог понять, что его так глубоко взволновало. Может быть, годы собственной неустроенности, когда он бился меж двумя берегами, тщетно пытаясь пристать к одному из них, потому что на одном была жена, с которой он разделил самое тяжелое время в жизни, а на другом — дочь и больная Василинка. Да, но почему сюда должен вовлекаться Сашко?
— Не знаю, Иван Иванович…
— Да, да… Я тебя понимаю, — сказал Сидоряк, жмурясь. — Лепил ангела, а получился обыкновенный человек.
Антон Петрович с удивлением посмотрел на собеседника — тот подсказал ему подлинный источник беспокойства.
— Это вы, пожалуй, резонно. Лепил… идеал…
— А нужно лепить человека.
— Очевидно, да… Я и хотел, чтобы сын не повторял моих…
— Понимаю, — снова прищурил глаза Сидоряк. — Значит, ты простер перед ним дорожку протяжением во всю длину еще не прожитой жизни, и ему осталось только идти по ней… только идти, прямо, мягко…
— Да нет, не то.
— А что ж еще?
Антон Петрович снова не находил нужных слов.
— Собственно, это — между прочим, — вывел его из неловкости Сидоряк.
И продолжил разговор о том, насколько изменился сегодня зритель: вместо грубой, выстиранной и выбеленной дождями войны одежды в театральных залах появились праздничные шелка, а главное, в театр пришла тонкая, впечатлительная душа. Антон Петрович понял, что Сидоряк, в сущности, говорил ему другое: не лезь с грубым словом в юную душу, в чистые чувства, потому что ушло время строгих приказов, узаконенных суровостью войны. А Иван Иванович вспомнил о финале пьесы с введением в действие праздничного зала. И здесь же — о Сашке: как это знаменательно, что неповоротливого старца-летописца, свидетеля и спутника далекого прошлого, сменил быстрый, расторопный паренек с газетами, символизируя новую историческую эпоху: движение, борьбу, новизну юности…
— Вот этот контраст, Антон… — Сидоряк умышленно задержал мысль Антона Петровича на этом моменте, касавшемся и деликатного душевного конфликта.
И Антон Петрович, поняв намек, заговорил с иронией:
— Неплохо! Вот потащим все в пьесу — сына, дочь, жену… И весь пестрый жизненный поток парочек, держащихся за руки, женщин в ярких платьях, струящийся в буфете папиросный дым, рассуждения о кино, футболе… о новых модах, планах на летние отпуска… Весь сумбур, все разноцветие! Не упорядоченную воображением жизнь, а схваченную на лету, в тот момент, когда она принадлежала только себе самой и была обычной необходимостью, а не фактом искусства… — Здесь Антон Петрович остановил себя, понимая, что иронии не получилось. И закончил мысль в несколько ином тоне: — А впрочем, это интересная вещь. Каждое человеческое действие, с точки зрения искусства, заслуживает внимания. В этом толковании все люди являются в какой-то мере актерами.
— Самодеятельными, — добавил Иван Иванович, но тут же сделал крутой поворот: — А парня зря обижаешь. Я тебя понимаю, но все-таки зря.
Он встал и быстро пошел в зал. Антон Петрович тоже пошел вслед за ним, но не знал — зачем. Казалось, будто он что-то искал.
Поднялся на балкон. Отсюда был виден весь пустой зал, разлинованный рядами старых кресел, подходивших к широченному окну освещенной сцены. Там люди только что творили жизнь, боролись, мечтали, радовались. Кое-кто еще оставался на сцене. О чем-то говорили, спорили, и это — созидание жизни. Люди продолжают жить — в своих интересах, в делах, в своей эпохе. Собственно, они и прошлое играли для своей эпохи.
Взгляд Антона Петровича остановился на Рущаке. Он стоял обособленно — видимо, еще и сейчас жил своими немудрыми, но какими-то бегущими, как зигзаги по горной дороге, мыслями о человеке.
Работая над пьесой, над воплощением в ней замысла дядька Ивана, Антон Петрович сблизился с театром, иногда заходил в маленькое кафе «Ландыш», где мог повидать актеров, и пьеса постепенно врастала в характер труппы; сами актеры, живые люди, — интересные и так себе — входили в сюжет драмы со своим духовным миром, вносили его в прошлое и, оставаясь самими собой, становились властелинами, философами, борцами, осаждали Тауэр и брали Зимний…
Читать дальше


![Юрий Романенко - Взгляд через годы [Южная железная дорога за 130 лет]](/books/35651/yurij-romanenko-vzglyad-cherez-gody-yuzhnaya-zheleznaya-d-thumb.webp)