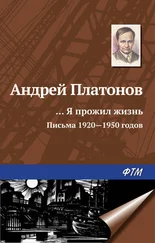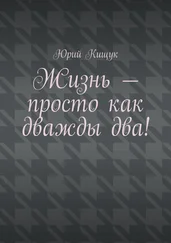Антон почувствовал себя неловко. И что хуже всего — не знал, что ему сделать, чтобы наладить ч т о - т о. Именно что-то! Свои отношения с дочерью, носившей чужую фамилию? Может быть, дать ей свою? Это ему показалось очень простым, однако понял, что не в этом суть. Что-то другое! Посложнее!
— Она никогда не спрашивает обо мне… об отце?..
Василинка только улыбнулась в ответ и еще более усложнила это тревожное ч т о - т о. Антон сел на кушетку и снова протянул к малышке свои деревянные руки, но тут же опустил их. Это он протягивал руки в свою, теперь уже путаную, жизнь, распятую на чужом перекрестке. Все, видимо, зависело от того, как решит это маленькое, родное существо. Было ли это настоящим или, возможно, мгновенным порывом, но он знал, что покорится воле маленькой своей дочери, покорится ее силе. Силе отцовского чувства, что вдруг вспыхнуло в нем, как взрыв гранаты.
Бабка Марья вернулась с кухни и сразу же поняла, что произошло.
— Иди, иди, — решительно потребовала она, обращаясь к гостю.
— Тетя… — прервала ее Василинка.
— Не называй меня «тетей»!.. Что ему здесь надо?
Антон не обиделся, потому что бабка имела право так говорить — ведь сама когда-то благословила их… (Еще тогда, в той пещере, которая, поди, теперь уже и развалилась.)
— Иди, иди, — настаивала на своем бабка Марья.
Он тоже назвал ее «тетей», набиваясь в родню, но бабка и ему ответила резко:
— Не называй меня «тетей»!
Бабка ревниво оберегала свою независимость — дескать, непричастна я ни к какой родне, она, бабка, сама по себе, да и только, и вы живите как хотите, но малышку не ставьте меж собой, ее защищаю я, потому что моя обязанность — защищать слабых.
Бабка Марья была не из слезливых, жизнь научила ее суровой мудрости:
— Тогда надо было думать… детки… В двадцать уже должна быть голова на плечах.
Антон тогда был благодарен ей за суровость, удержавшую его от расхлябанной чувствительности. Овладев собой, молча вышел из хаты. Однако унес в своей душе маленькое родное существо, и оно сделало его жизнь до конца беспокойной, хотя и более весомой, содержательной. С этих пор у него появилась реальная отцовская забота, но потому, что она, эта забота, не шла дальше размышлений и переживаний, она становилась тяжкой, неотступной, изнуряющей.
…Когда он завершал работу над замыслом дядька Ивана, воспоминания из личных переживаний дополняли трагизмом судьбы героев, трагизмом, шедшим от мира, изуродованного войнами, сломанного дикостью, изъеденного жадностью богатых. Через всю сложность этот мир шел в символических образах к своему новому дню, поднимался к красоте, любви и добру. И аккордом звучал монолог героя, исполнявшийся Сидоряком.
«Я несу прошлое не на плечах, а в себе. Я врос в века, они прошли через мою личную судьбу. Если бы я начинался только со дня своего рождения, был бы как дерево, не дотянувшееся корнями до влаги глубинного слоя. Но я достаю даже до глубин рассвета человечества. И это дает человеку веру в свое бессмертие».
Правда, Сидоряк не принимал этих слов, говоря: бравада, крик! Но это была скорее эмоциональная оценка.
После свидания с дочерью Антон Петрович не находил себе места. Настойчиво просилось в дом маленькое существо. Казалось, что только оно может принести с собою тепло к материнскому родному очагу, сделать этот дом своим, обжитым, таким, как когда-то.
Жена не пыталась ни отговаривать, ни тем более ругать его. Предоставила его самому себе и приняла такое решение: выберешься из водоворота — хорошо, а нет — я в воду бросаться не стану, ты же все-таки мужчина. Приняла удар без плача, но по-женски жертвенно: в душе горела, сгорала и таяла. Если бы знала, что так будет, лучше уехала бы к родным. Но боялась за него, потому что знала — нужна ему. Лишь один-единственный раз упрекнула, когда уходил из дома, оставив какую-то работу:
— Опять убегаешь?
— А что здесь сидеть? — спросил и сразу вскипел.
Анна промолчала. Но Антона это молчание не обезоружило, он хотел говорить и, раз уж такой случай представился, решил высказать накопившееся.
— Голоса живого в доме не слышно, — продолжал он раздраженно. — Как в тюрьме!
Жена встала, ее красивое с мраморным холодком лицо на этот раз зарделось, видимо на что-то решилась. Спросила:
— Разве я виновна в этом?
Приглушил раздраженность и проговорил, запинаясь:
— Ни ты… ни я… Так и будем… одни…
Это был тягостный для женщины разговор. Тяжкий и обидный, но Анна сдерживала себя как могла.
Читать дальше


![Юрий Романенко - Взгляд через годы [Южная железная дорога за 130 лет]](/books/35651/yurij-romanenko-vzglyad-cherez-gody-yuzhnaya-zheleznaya-d-thumb.webp)