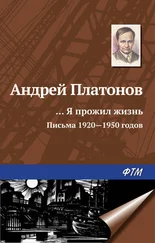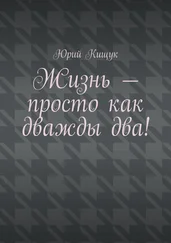— Сейчас не то.
— Оно всегда «то»… Если человек решается на добро, он о боязни не думает…
Через день прощались со своим спасителем, потом долго шли лесами, перелесками, держась за руки, как малые дети, чтобы не затеряться в огромном мире. Антон сжимал руку молодой жены. Он был сейчас влюблен в весь огромный мир. И удивлялся:
— Это же чудо!
Неужели до сих пор никто не шел рядом со своей молодой женой?
Нет! Это было впервые в истории человеческого рода! Женская рука… обветренные сухие губы… белое солнце… небо… перелески, насквозь пропахшие весной…
Они шли пешком, почти босые, а то, что было у них на ногах, даже не смахивало на обувь. Шли из дальнего края, одолевали огромные расстояния, чтобы наконец дойти и осесть на твердом месте и больше не ощущать под ногами зыбкости. За время своей жизни в подземелье Антон свыкся с чувством чего-то малого, ограниченного. В таком состоянии ему импонировала забота лесника о своем зеленом царстве, почти совсем отгороженном от чужого мира.
(Значительно позднее Антон диву давался, размышляя о своем спасителе, видя его каким-то вросшим целиком в свой зеленый мир. Казалось, что лесник даже мысленно не выходил за его рамки, словно вовсе не интересуясь, из какой чужбины приблудились к нему преследуемые люди и каковы они.)
Чем дальше уходила за горизонт сторожка лесника, тем шире распахивались двери в еще не устоявшийся мир, и надо было снова учиться ладить с ним, приноравливаться к нему, находить общий язык с людьми, говорившими на всех языках планеты. Антон шел по земле в старых лохмотьях, словно по собственному двору, гордился перед всем миром своей молодой женой, носившей тоже остатки фронтовой одежды. Он должен был пройти с нею всю Европу как победитель, возвращающийся из далекого похода, — с самой красивой на свете пленницей. В огромном мире, двигавшемся во все четыре стороны колоннами, группами и в одиночку (в этой удивительной картине было что-то от жизнеутверждающего весеннего перелета птиц), Антон как-то по-иному стал чувствовать свою собственную судьбу. Он словно и сам стал глубже, более весомым. Чувства к молодой жене слились с общей человеческой радостью. И вместе с тем возросло чувство ответственности — за себя, за нее, за всех. Но словно острый кончик иголки проникала в совесть та, оставленная дома, — Василинка…
Впервые это чувство пришло к нему в дороге, когда они сидели в углу переполненного вагона, в густом папиросном дыму, а вагон качался, как пьяный, гремел на стыках рельсов. Именно тогда Антону пришло в голову, что о н а, возможно, и жива, и ждет его. Даже вздрогнул при этой мысли, и Анна спросила:
— Ты что, милый?
— Холодно здесь, что ли?..
Посмотрела на него с удивлением — был очень жаркий день.
— Здесь сквозняк, — добавил он.
Паровоз кого-то окликнул, и вагоны, кажется, побежали быстрее. Оказалось, что он перекликнулся со встречным составом, тоже сплошь облепленным «перелетными птицами», направлявшимися к месту гнездовий.
— Здесь сквозит, — повторил Антон, заметив, что Анна не поверила ему.
Тогда она накинула ему на плечи какую-то старую шинель, сама прижалась к его груди, и он обнял ее, но все-таки уже думал о т о й.
Так было на протяжении всего нескончаемого пути. Василинка существовала только в его воспоминаниях, дополняя Аню — живую, горячую, любящую, реально существующую, смотрящую на него серыми преданными глазами…
(Как хороши любящие глаза!)
…Смотрела на него из-под воротника чужой шинели.
— Мама будет счастлива, она давно хотела, чтобы я привел в дом невестку, чтобы были внучата, — шептал ей на ухо, вернее, не ей, а им…
А вагоны гремели колесами по рельсам, паровоз, как старая кляча по дощатому настилу моста, постукивал и вез их, глупых детей, в новый мир, хотя они из уголка вагона ничего не видели, зажатые скоплением незнакомых людей. Они и не интересовались, что происходило вокруг, ни о чем не заботились, потому что будущее теперь было надежным, куда бы ни вез их старый паровоз-кляча. Всюду, казалось, теперь был прекрасный мир.
…Однако Антон Петрович не мог спокойно думать, потому что в душе что-то упорно теснилось:
«Ах, разве я тогда думал, что это может оказаться ошибкой?»
Как будто у него вопрос таким образом не ставился, он просто полюбил. У него не было даже выбора в том тесном мире, выделенном бородатым лесником на двоих.
О чем он мог тогда думать?
Он не чувствовал, что мир измеряется не днями, месяцами и годами, а человеческими судьбами, не думал о том, что время никогда не бывает просто временем, оно всегда — человеческая судьба: год счастья, месяц горя, день радости. Тысячелетия беспокойства. Человеческая история — это тревога и борьба… Женюсь… Тоже светлое беспокойство… И самое большое счастье… Два месяца счастья, если считать подземелье, лечение в военном госпитале, многодневный перестук колес на стальных магистралях с долгими стоянками на станциях и полустанках, со сквозняками вокзалов, где были выбиты стекла и не было дверей.
Читать дальше


![Юрий Романенко - Взгляд через годы [Южная железная дорога за 130 лет]](/books/35651/yurij-romanenko-vzglyad-cherez-gody-yuzhnaya-zheleznaya-d-thumb.webp)