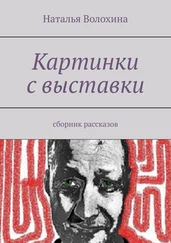Это мелькнуло и исчезло, потому что было выражением большего — единой телесности всего сущего. Все, что я видела, было не просто связано — едино. Я не скажу, что все было приятно в этом увиденном. Гущина волос и влажная прелость, как в душном лесу, — было одновременно и неприятно и очень здорово. Обилие видимого было тоже и прекрасно, и неприятно. Я вроде бы перечислять, как Уитмен, все разное, но единое устала.
Была потом как бы дремота. Какие-то дела и разговоры — будто бы в тайнике я спрятала некое сокровище и ждала, когда все уйдут, чтобы на него снова взглянуть. В тот день я впервые видела так ярко и суще. Так алчуще.
На улицу вышла я, когда солнце уже зашло. Я была одна. Я выбирала улицы, где меньше прохожих. Темнеющая, матовая голубизна неба. Серые — цвета птичьего крыла, изгибом птичьего крыла, изгибом туманности Андромеды, — лежали в этом голубом небе тучи. Воздух свежий, но не весенний — запахи деревьев и земли еще не проснулись. Запах влаги смягчал и свежил воздух. Ни жарко, ни холодно не было. Вся я была одним только взглядом, омытым этим влажным, этим чистым воздухом. Луна взошла одуванчиком: на низком, в солнце величиною диске вырисовывались — на пепельном пепельные — лунные хребты и моря.
Другие облака вставали на все темнеющем голубом небе. Луна побелела — вокруг нее был уже золотой ореол. Небо, луна, облака — все было лиловым, серым, черным, золотистым, голубым — и рядом с этим электрический свет в окнах был на коричневом пределе темно-желтого. Мелко-извилистый рисунок веточек был удивительно тонок на этом небе, так тонок, словно и он, как свежесть воздуха, как нежность красок, был влагой для пересохшего, жаждущего взгляда.
Какой-то изгиб улицы скрыл от меня луну, а когда я снова ее увидела, она уже взяла себе золото от ореола, и ореол как бы пульсировал, едва уловимо радужный, и тучи вокруг были угадываемо пронизаны красным.
Быстро темнело. Если раньше в лужах отражалось лиловое, голубое, серое, теперь в них отражались только фонари, только огни. Влажный асфальт был в отражениях стволов деревьев, теней людей, в мелком струении желтого, электрического. Луна ушла за тучи, но взгляд следил, угадывал место, где она должна была появиться. И я вдруг поняла, что живу уже давно, только не знала этого. Я поняла, что все эти анфилады имеющих быть событий, здание моей будущей жизни — пустяки. Я поняла даже, что пустяки — буду я в жизни счастлива или нет. Я поняла, что смерть не впереди, смерть — позади. Из нее я вышла. А уж раз вышла, больше меня в нее не загнать. Этого уже не изменит даже смерть. И тут же я вспомнила вдруг двоюродного брата-идиота — стыд и безысходность нашей жизни. Вспомнила, как он сидит в распахнутом туалете, вспомнила его рыдающий крик: «Зеленое! Красное! Желтое!», басовитые рыдания, глыбу толстых плеч. Идиот, не став человеком, становился мужчиной. Оказалось, боль может быть в сто крат больше в проснувшейся душе. Но и она оказалась жизнью. Индиговое небо в пролете ущелья улицы было невероятным. Я оглянулась — луна смотрела здесь золотым оком.
Я едва добрела домой — у меня раскалывалась голова. Тупо поела — и вдруг бросилась к окну, уже зная, что увижу все другим. Жизнь была так велика и сильна, что ни одной минуты она не могла оставаться той же. Маленькая золотая луна в невидимом, как у святых, ореоле жила в облачном небе, быть может, не зная этого.
Я легла и заснула.
Накануне в колхозном клубе давала концерт агитбригада. Вела концерт девушка из райкома Ксения Павловна. Зрители сидели в пальто, с шапками в руках, а она была в тоненьком шерстяном платье, в лодочках, чувствовала, что ею любуются, и распоряжалась непринужденно и зрителями и актерами.
Почти вся бригада была девическая. Даже клоунами были девицы. И когда утонувший в пижамных брюках и необъятной кофте, подпоясанной почтовым шпагатом, тоненький клоун говорил нарочитым басом: «Трактор только что починен. Что ж он стынет на меже?», а другой, девически округлый, пищал: «Потому что он починен и поломанный уже», и оба клоуна подпрыгивали и хлопали себя по животу и ногам и даже кувыркались — зрители хохотали одобрительно:
— Ну ходкие девки, гля-ка ты! Во, что выделывают! Всему обучивши!
Ксения Павловна выходила после клоунов со смехом и приглашала зрителей еще посмеяться и похлопать. И клоунши выкувыркивали на сцену и еще что-нибудь «выдавали».
— Слышь, Кузя, — старательно басил тоненький клоун, — а «Гигант»-то… отстает!
Читать дальше
![Наталья Суханова Синяя тень [сборник рассказов : СИ] обложка книги](/books/430599/natalya-suhanova-sinyaya-ten-sbornik-rasskazov-s-cover.webp)