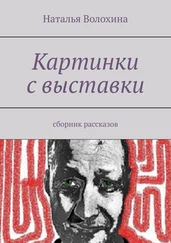Через три часа лежала я на своей второй полке купейного вагона, и ребенок снизу, который почему-то не спал, а сидел вдвоем с матерью, глядя в окно, говорил спокойным задумчивым голосом:
— Вот и луну проехали…
Я думаю, мало сказать: «Я испытала любовь или ненависть тогда-то и тогда-то». Словно это всегда одно и то же. Это каждый раз другое чувство. Как и чувство жизни.
Но сначала, наверное, о чувстве смерти — хотя это и не так буквально сказано. Не знаю, может, другие начинают жить еще в детстве. Возможно, и я жила в каком-нибудь раннем детстве, но потом забыла. Чувство же смерти я испытала довольно рано и, по-моему, прежде чувства жизни. «Жить и не жить — вот в чем вопрос». Была война, налет, бомбоубежище. Неизвестность следующей минуты. Даже и этой, теперешней. Сотрясаются стены подвала, мигает, гаснет и снова зажигается убогая лампочка, но что это — разрывы бомб или выстрелы противовоздушных орудий — никто не знает. Мы так же не знаем следующей минуты, как неспособна осветить что-нибудь, кроме этого подвала, тусклая лампочка. Душно, как будто нас уже завалило. Но тогда погас бы и этот слабосильный свет. Короткий немощный свет. Короткая немощная жизнь. И думаешь: если смерть, то — что это, как это? И не понять это иначе, как отсутствие будущей твоей жизни, которой ведь тоже нет еще. Но уж точно, в любом случае будет жизнь для тех, кто останется жить. Это как дом, в который вошел — и знаешь, что комнат в этом доме гораздо больше, чем ты успел увидеть. Но вдруг вместо следующей комнаты — провал. Двойное недоумение: что следующие комнаты будут и что для тебя провал. Двойное чувство: жалкого ряда этих комнат и жалкой же невозможности по ним пройти. Нечто похожее на безнадежный каприз. Двойной обман: комнаты, которых нет, но в которых отказано. Двойная тщетность: тщетность вообразить будущую свою жизнь и невозможность вообразить отсутствие ее. Удвоенные, утроенные, удесятеренные беспомощность, жалкость, убогость. Смутное подозрение, что это и есть смерть.
Смутное подозрение, что это и есть будущее. И невозможность согласиться с этим. Я этого так же не желала признать, как жалкость футурологических снов Веры Павловны, как жалкость утопии и рая. Тоска скрючивала нас всех в слепом жалком подвале, и я боялась думать о смерти. Мне отвратительно было вглядываться в этот мрак. Но в нежелании, отвращении думать о смерти было много от нежелания думать о будущей прекрасной моей жизни.
Это не чувство смерти, вы думаете? Но это чувство было бы последним, если бы нас разбомбило в ту ночь.
Прошло года три, может быть, даже четыре или пять. Потому что войны уже не было, а как нас прокормить — это уже не наша была забота. По всей видимости, я жила напряженнейшей жизнью: была усердная общественница. Трения, разногласия, истории в классе принимала так близко к сердцу, словно именно в них раз и навсегда решались окончательная справедливость, честь и бесчестие. Но и это было не все. Я занята была астрономией. Даже не астрономией — потому что и много лет спустя я могла найти только три созвездия: двух Медведиц и Плеяд. Я была поглощена книгами о Вселенной — ибо там были бесконечности, еще непознанные, и там мне брезжилось обоснование всего, что на земле. Ученые, понимала я, самого главного о Вселенной еще не знают — им доступна пока только внешняя сторона ее. Но, подолгу вглядываясь мысленным взором в ее бесконечности, я мгновениями проникалась экстазом предчувствия чего-то вроде духовной сердцевины Вселенной. А раз она есть, духовная сердцевина, все остальное имело значение слагаемого и приближающего.
Однако тьма после экстатических вспышек была особенно тесна и безнадежна. Для того чтобы иметь силы продолжать жить, нужно было еще хотя бы раз прикоснуться, пусть только прикоснуться к экстазу. А он возникал все неохотнее. Приходилось убеждать себя голыми умственными выкладками.
В этом состоянии тьмы, нет, даже не тьмы — серой промозглости я словно возвращалась к тем минутам в бомбоубежище — чувству смерти, двойной тщетности: невозможности вообразить будущую жизнь и невозможности вообразить отсутствие ее. Хуже того — эта тусклая мгла цепенила меня страхом и невозможностью сделать следующий шаг. Пугающе странно мне было, что вот есть реальнейшая из реальностей — минута этого дня или вечера, есть я, звуки за стеной, человек, прошедший по улице, — реальнее некуда! — но минет время — и уже не будет никогда: этой минуты, этих звуков, этой меня. А еще через какое-то время, чтобы окончательно утвердить эфемерность того, что зовется «сейчас» и что только и существует на свете, — не будет на свете уже ни меня, ни этого человека, ни этого дома, наверное. А главное, никогда больше не будет вот этой минуты, мгновенно нанизавшей на ниточку все подробности бесконечной Вселенной.
Читать дальше
![Наталья Суханова Синяя тень [сборник рассказов : СИ] обложка книги](/books/430599/natalya-suhanova-sinyaya-ten-sbornik-rasskazov-s-cover.webp)