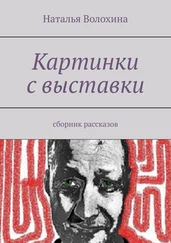Долго ли мной владели приступы отчаянья? Дольше, конечно, чем минуты экстаза, но в общем — недолго.
И чтобы перейти к тому дню, когда… чтобы уже перейти к этому дню, надо добавить, что все подробности той реальной минуты, которую судорожно удерживала я, совсем не были мне приятны — ни я сама, оцепеневшая в страхе сдвинуться с места, ни звуки за стеной, ни прошедший мимо человек. Не потому, что они мне нравились, вцеплялась я в них, а просто страшась неумолимого исчезновения всего. Ибо только в бытовом невнимательном представлении комната на другой день была все той же комнатой, я все той же я, время все тем же временем.
Так это было для меня, несмотря на тысячу дел, увлечений, привязанностей, несмотря на все то, что и составляло для всех, даже самых близких, мою сущность в то время. Потому что не только говорить об этом — даже додумывать свои мысли до четкости я не хотела, не смела, не могла. Ни о тщетности существования. Ни даже о Вселенной. Хотя, казалось бы, что за секрет — Вселенная, всем явленная, всех объемлющая? И все-таки я страшилась за Вселенную, словно восприятие другого человека, восторжествуй оно над моим, могло бы разрушить, исказить, испортить ее. Словно мое восприятие и была сама эта Вселенная.
Неуверенность ли во Вселенной, моя ли зависимость от нее, ее ли зависимость от меня — это тоже было тайное, чего не хотелось открывать даже себе. Серая промозглость была еще большей тайной — даже от себя, потому что смерти равным было бы отождествлять ее с миром. Я предпочитала считать ее своей стыдной болезнью, немощью своего разума.
Забавно, однако, сколько даже в самых открытых детях и подростках этих тщательно скрываемых параллельных жизней и обликов. Много что густо томило меня в эти самые беззаботные, полные болтовни, дел и веселья годы. Страх перед следующей минутой, перед засыпанием — разве смела я обозначить его признающим словом? Ибо засыпания я тоже боялась — будто под моим неусыпным взглядом минуты все-таки не были так неуловимы, так смертоносны. Время томило меня, хотя должно было бы воодушевлять — ведь я под всеми парусами шла к вершине жизни — юности, зрелости, любви, познанию, творчеству. В минуты, когда мир представал безнадежным, все это теряло смысл — юность, любовь, познание, творчество. Единственным оправданием течения времени был бы выход к сияющей сути Вселенной, пусть даже уничтожающий все прежнее — он того стоил. Вот приблизительный абрис того, что я тогда чувствовала, чем жила.
Вплоть до того дня.
Обычный день. Была зима. Оттепель. Было солнце за окнами класса, и яркий солнечный день давил нас и усыплял. Мы слабо жужжали, как мухи в жаркий день. Прямо передо мной сидела Оля Соболева. Не так давно училась она у нас, но, в общем-то, я уже отлично ее знала. Знала ее привязчивый, но вспыльчивый характер. Знала ее неровные, с блеском и провалами, способности. У нее было свое место в нашем конгломерате. Своя особенность, без которой конгломерат был бы уже другим. Но сейчас, когда единственно оживленным в классе — не быстрым, но очень живым — был солнечный свет, все душевные особенности Оли дремали вместе с ней. Черная, гладкая, в тяжелых косах, ее головка так отражала солнечный свет, что была уже не черной, а белой — в белом блеске. Именно по белому блеску можно было понять, какая она черная, да еще по черной гущине сбоку от блеска. Девочка медленно подняла руку и почесала в этой гущине, словно почувствовала там мой взгляд, а я в ту же минуту ощутила там, в глубине под волосами — как в темном, душном от гущины лесу — прелую влажность кожи. Какие густые все же были волосы — на две фаланги ушли в них длинные мягкие пальцы Оли. И тут же у волос рдело маленькое, сложно-упруго-изогнутое ухо — чудо уха — розовое, пронизанное солнцем. Белый блеск черных парт — белые потоки черной краски. Свет в классе был сильным и жарким. Но я знала, что совсем не жарко на улице. Все-таки была зима, хоть и оттепель. Я перевела взгляд за окно. Не прежде, правда, чем солнце зашло за облачную поволоку, до этого глазам за окно не хотелось — им вполне хватало восхитительно розового, с причудливым хребтом хрящиков уха Соболевой. А за окном — следы растаявшего снега, мокрая крыша пристройки — с мягким блеском и отражением ветвей. Влажные стволы и ветви выявляли свою цветовую особенность: ива чуть не оранжево желтела, береза, где потоньше, помоложе — белела, тополя в веточках — зеленели, чернел старый ряд немолодых деревьев, чуть не фиолетовы были фруктовые деревца, бурым — дикий виноград. У деревьев видна была большая лужа — «зерцало» с серым льдистым дном. И чуть подальше лужа на асфальте — черное зеркало. И белое небо, и черные стволы и ветви отражались в этих двух — черном и белом — зеркалах удивительно четко, с цветом и оттенками. Солнце вышло из-за туч — снова горячий свет. Шире распахнулась приоткрытая учительницей форточка — пахнуло свежестью, и свет метнулся по классу, как лягушонок в зеленой воде. И в тот же миг все это соединилось для меня в одно: свежесть за окном, вестником которой был горячий свет, и гущина волос, которая была и гущиной леса. Я как бы ощутила единую телесность всего сущего, где черное было белым, а жаркое свежим, где так счастливо сочетались и соединялись розовое чудо уха и тяжесть и крутость перевитых в косы волос, и поднятая с обгрызенными, короткими на длинных, изогнутых пальцах, ногтями рука, и просвечивающие концы этих мягко изогнутых пальцев. Я ощутила вдруг единую сущность девочки, сидящей передо мной. Ее длинная, с мягкими изогнутыми пальцами рука так явно повторяла всю ее фигурку — с мягкой выпуклой изогнутостью бедер, с маленькой грудью и длинной, как бы подставленной чему-то шейкой. Весь ее — и мягкий и привязчивый, и вспыльчивый и опасный — характер, ее — и глубокий, и способный, и слабый — ум были эманацией этого тела. Ее характер и ее тело были настолько одно и то же, что можно было, если перестать думать, догадаться по изгибам ее тела об изгибах ума и характера.
Читать дальше
![Наталья Суханова Синяя тень [сборник рассказов : СИ] обложка книги](/books/430599/natalya-suhanova-sinyaya-ten-sbornik-rasskazov-s-cover.webp)