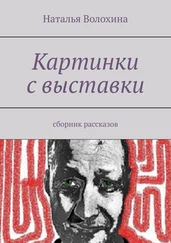Еще минут пять я то просто стоял, то стучал. Дома явно никого не было. Но я не сразу ушел. И не то чтобы надеясь, что кто-то придет, я даже, кажется, доволен был — ну, не без минутного огорчения, — что не застал никого дома. Мне просто некуда было спешить. Мир оставался все так же полон жизни и подробностей, мой взгляд не тускнел, и не оставляло ощущение взаимооткрытости с миром, вот только последняя грань оставалась — неосознанность значения этого открытия, бессловесность чувства. Казалось, вспыхни нужное слово, мысль, смысл, пойми я, что говорит мне на столь изобильном языке невероятно важных подробностей мир, и всё — осанна!
Не спеша я тронулся в обратный путь, прислушиваясь равно к миру и к себе. Ничто во мне не свидетельствовало о том, что я свихнулся. Мир продолжал говорить бессловесно. Томление и тревога были все сильнее, и все сильнее была радость. Так дошел я до вокзала, купил билет и отошел подальше, сел на скамейку. Минут сорок, наверное, уже продолжалась невероятная острота зрения и чувства. Слова, только слова мне не хватало.
Рядом остановились два молодых мужика — допить из бутылок пиво. Один был молчалив, другой рассказывал что-то о женщине:
— Она, подлянка, как все, не хочет — своенравка хренова!
Молчаливый допил, выбросил бутылку, пошел, слегка пошатываясь, к дороге. Другой разболтал остатки в своей бутылке и уже хотел допить, но окликнул друга:
— Слышь? Я ее полоскал по-черному! По-черному полоскал!
И вдруг я почувствовал, что потихоньку — медленнее, чем заходит солнце — начинают меркнуть мое чувство, и взгляд, и слух. Не до пустоты и черноты. До нормального зрения и слуха, соответствующих времени майского дня тысяча девятьсот шестьдесят какого-то там года, моему возрасту и гражданскому состоянию.
Майский день продолжался, и электричка еще не подошла.
Был ранний южный вечер. Мне предстояло еще часа три ждать своего поезда. Из продуваемого почти горячим ветром зала я смотрела, как напирают друг на друга люди у кассы — небольшая, в общем-то, очередь, но и у нее была плотная центральная часть и разреженные края, и каждый стремился втиснуться в плотную часть, где могут только теснее прижать к кассе, но не выдавить в боковое пограничное пространство. Молодой человек в тоскливом стремлении даже положил подбородок на плечо стоящего впереди. Женщина в помятом платье грозила ребенку, но выйти из очереди и внушить ему как следует не решалась. Не было ни в этой очереди, ни во всем зале таких, которые бы предпочли этот вокзал поезду и тому, что их ожидает.
В огромности зала, где гуще, где реже, располагались кучки людей — на чемоданах, вещмешках и ящиках. Над ними плыл разноголосый, резонирующий гул, прорезаемый детскими взвизгами. А над всем этим в высокие, какие-то почти церковные окна под потолком глядело как бы даже ненастоящее, с театральных декораций или с картины испанца, небо электрически-синего цвета с таящейся в нем оранжевостью. Или уже ушедшее за горизонт солнце еще доставало тоскующим длинным лучом меркнущее небо, или медная луна уже подсвечивала небо из-за края гор.
В разноголосом гуле, в оранжево-синем, сгущающемся к ночи небе плыл кусок какой-то квартиры с затененными забвением углами, со смутными недовспомнившимися лицами, с мелькающим выражением этих лиц — выражением гостеприимства и простоты… Какая-то семья в областном городе… семья, в которую привели меня на полдня, на день… я даже представляла, кто мог меня привести. И вот тепло семьи, в быт которой принята я, — на целый день, может быть. Я помнила, где находился стол, а где двери. И кровать помнила, потому что на ней, вблизи праздничного стола, лежал младенец, которым занималась время от времени хозяйка. Был смех, было застолье, небольшое, всего человек пять. Какой-то праздник был — длинный, как все праздники в тех местах. Со стола и не убирали, только мыли и снова ставили тарелки, только уносили, чтобы подогреть и добавить, кастрюли и сковородки, только бегал кто-то, чтобы подкупить вина. Кроме младенца, еще какой-то ребенок припоминается. А женщина, хоть и молодая, но уже располневшая была… Детей же, да, пожалуй, было двое: постарше, который-которая сам-сама подходил к столу, когда ему что-нибудь нужно было, и тот — на кровати — младенец… Почему это никогда не всплывало в памяти, словно и в жизни не было, и вдруг восстановилось куском с размытыми краями?
Голос с потолка, как бы с нервной зевотой — «А длер» — объявил очередной поезд, и снова в оранжево-синем небе проплыл стол с остатками закусок в тарелках, со смутным ощущением выражения лиц, с обрывками смеха и голосов. Без начала и без окончания. Проступило и ушло, как уйдет, растворится, наверное, и этот вокзал, это ожидание, это промежуточное время меж тем и этим, время, в котором единственный смысл — ожидание.
Читать дальше
![Наталья Суханова Синяя тень [сборник рассказов : СИ] обложка книги](/books/430599/natalya-suhanova-sinyaya-ten-sbornik-rasskazov-s-cover.webp)