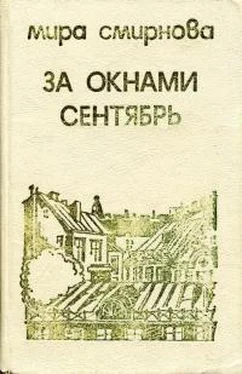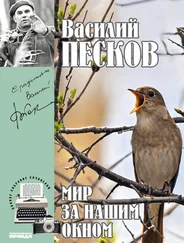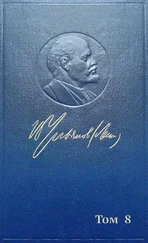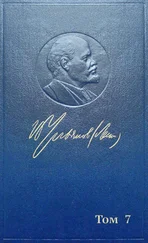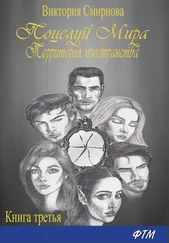Они прощаются. Римма выходит из метро и садится в троллейбус. В нем уже свободно, три остановки до своего дома она едет сидя, с комфортом. Лифт внизу, и, как ни странно, работает. Римма поднимается на четвертый этаж, не успевает выйти из лифта, как слышит крик:
— Явилась! Наконец-то! Свинство! Безобразие!
Перед ней бледная плачущая Лялька. От неожиданности Римма роняет сумку и тоже кричит:
— Почему не предупредила?.. Я жду, а ей телеграфировать трудно! Что ты плачешь?.. Что случилось?
— Вчера, вче-ра дала телеграмму!.. — всхлипывает Ляля. — На аэродроме нет — ладно, не успела… Приезжаю домой — нет ее… Ну, вышла на минуту… Сижу час, два… Звоню к соседям — сегодня никто не видел… Может быть, ты с сердечным приступом лежишь — надо двери ломать… в милицию бежать — пусть ищут…
После этого они наконец обнимаются, плачут, говорят какие-то бессмысленные слова… Вместе втаскивают вещи, долго рассматривают друг друга, находят, что обе побледнели, похудели и… не помолодели.
— Ничего! — бодро говорит Римма. — Это сегодня переволновались, устали… Мы еще с тобой — ого-го! — и командует: — Раздевайся, мойся, потом буду тебя кормить.
Они продолжают бестолково ходить друг за другом, без умолку говорят, перескакивая с предмета на предмет, что-то теряют, ищут… Наконец Римме удается загнать Лялю под душ и соорудить ужин.
Выходит Ляля в ситцевом халатике, с распущенными мокрыми волосами, порозовевшая, зеленые глаза весело блестят. Сейчас она кажется совсем молодой. Они усаживаются в кухоньке, Лялька оглядывает знакомую до мелочей обстановку и размягченным голосом говорит:
— Знаешь, я здесь больше дома, чем у себя. Мой дом там, где ты.
— Это и есть твой дом, Ляль, — говорит Римма, сдерживая слезы.
Они долго молча смотрят друг на друга, говорить трудно — слишком близко слезы. Потом Ляля с тревогой спрашивает:
— Скажи правду: плохо себя чувствуешь? Какие-нибудь неприятности? У тебя скверный вид. Где ты пропадала?
— Поехала нам квартиру смотреть, и как ты думаешь, на кого там напоролась? На Шурку!
— Какую Шурку? Кто это?
— Как ты не помнишь? В блокаду у нас вещи покупала… Красивая такая… Ты еще просила не пускать ее к нам.
— Эта кровопийца! — вскипает Ляля. — Жива, значит, голубушка! А ей еще тогда «вышка» полагалась.
— Ну, это ты хватила!
— Да, да! Спекуляция продуктами в осажденном городе — мародерство. А за мародерство в военное время — расстрел.
— Жизнь ее наказала. И может быть, страшнее…
— Знаешь, Ришка, когда я сидела под твоей дверью и продумывала версии твоей гибели, — без всякой связи говорит Лялька, — я поняла: ты самый дорогой мне человек. Естественно, я люблю своих девчонок, очень привязана к Мишке, а ты для меня и мать, и сестра, и подруга… Главный мой человек! — обнимает она Римму.
— А ты — мой единственный…
— Неправда! — вскидывается Ляля. — А банда твоих мальчишек-девчонок?
— Почему «банда»? — обижается Римма. — У тебя не к месту лезут профессиональные выражения. И как бы я жила без них? Ты ведь так далеко…
— Больше на день не расстанемся! — категорически заявляет Ляля. — Улетишь со мной, к августу вместе вернемся совсем. На день тебя не отпущу! — и, помолчав, с некоторым удивлением говорит: — А ведь ты счастливый человек, Ришка… Несмотря ни на что — счастливый!
— Несмотря ни на что… — задумчиво отвечает Римма.