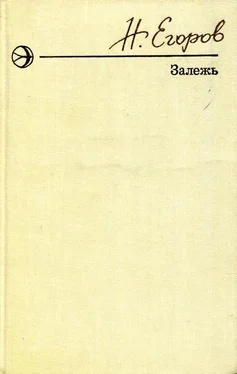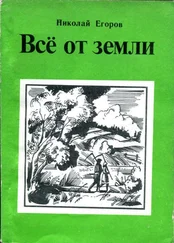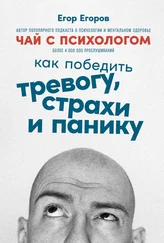— От добра добра не ищут.
И еще могут сказать:
— Одумайся, Константин. Родина у человека одна.
— Правильно, — ответит Костя, — Родина у человека одна. Вот поэтому я и поеду на целину.
И уедет. Все равно уедет, что бы там ни говорили.
Анатолий Белопашинцев шел по вагону и, как заправский проводник, объявлял остановку, на которой должны были сойти все.
— Конечная! Ребята, конечная. Готовимся, ребята. Кто там все еще спит? Разбудите. Вася! Подними товарища.
Все еще спал Федор Чамин, но Вася тоже как следует не проснулся и не знал, за что браться сперва: то ли умыться бежать, то ли будить товарища, то ли укладывать вещи. Вагон зашевелился. Хлопали поднимаемые и опускаемые полки, гремели пепельницы, щелкали замки чемоданов, шелестела бумага, шуршали плащи, шипели шнуры вещевых мешков. Вася как попало совал в рюкзак пожитки, которых оказалось больше, чем он считал, и между делом тормошил Федора:
— Земляк, вставай! Чамин! Приехали!
Но Чамин только шлепал губами, мычал и всхрапывал того сильней.
— От упражняется, хлебороб.
В девичьем купе стукнула и выкатилась на проход бельевая прищепка. Тятин поднял ее, повертел, удивляясь такой сугубо домашней вещи здесь, сунул в карман, пригодится, но тут же вынул обратно, давнул на концы и ловко защипнул Чамину длинный нос. Чамин закатался затылком по голой полке, вскочил, бухнулся головой о верхнюю, снова упал и, прищурив один глаз, другим пытался разглядеть, что за кикимора у него на носу сидит и откуда она взялась. Разглядел, сдернул, зажал в кулак, дотянулся тем кулаком до Васиной шеи, но достал худо и едва сам не свалился.
— Ты-ы! Полосатик! Твоя работа?
— А-а, проснулся! Ну и храпишь… Чище лошади.
— Я спрашиваю, твоя работа? — щелкнул Федор прищепкой.
— Ты, слышь, ноздри не раздувай, а слазь. Приехали.
— К-куда?
— В Целиноград, куда.
Вася закинул рюкзак за спину и был — да нет. Откуда мог знать и подозревать Вася Тятин, что появится впоследствии такой город на карте советского Казахстана. И не просто город, а центр хлебного края, что Целиноград этот назывался пока Акмолинском и акмола в переводе с казахского — белая могила.
— Ну, доиграешься ты у меня, — пообещал Федька исчезнувшему Васе и прижался лбом к влажному оконному стеклу, пытаясь увидеть, что там за город Целиноград впереди, но, кроме белого ковыля до синего горизонта, ничего не увидел. Засвистели по рельсам прихваченные намертво колеса, Чамина потащило с полки, и, чтобы не упасть и не ушибиться, Федор спрыгнул на пол сам, потянул книзу оконную раму и высунул голову, что там могло случиться.
Ничего не случилось. Это была просто остановка, вагон шумно безлюдел, с обеих подножек спрыгивали парни покрепче, принимали багаж, спускались по глинистой насыпи в заросший иван-чаем и пыреем кювет, мокрые от росы выбирались на ту сторону, складывали все в одну кучу и возвращались обратно, чтобы помочь перейти девчатам.
— Ну, такой ланшаф не по мне.
Осваивать целину Федьке окончательно расхотелось. Сел в уголок, чтобы его не заметили и не позвали, надвинул на глаза фуражку и стал ждать, когда поезд тронется дальше до более подходящей местности.
— А вы почему не сходите, Федор Иванович?
Федор Иванович приподнял козырек, смерил рост Анатолия Карповича, стоящего перед ним с двумя связками книг, и усмехнулся:
— Не вижу совхоза, товарищ директор.
— Увидите, какие ваши годы.
— Нет. Не по мне ланшаф, — повторил Чамин.
— Сходите, я говорю. Не понравится ландшафт — никто вас за фалды держать не будет.
Белопашинцев уходил, и Федька, циркнув слюной, тоже поплелся к выходу. На землю ему пришлось уже прыгать, потому что состав, не дожидаясь, когда его милость соизволит сойти, тронулся, и изо всех окон от паровоза до опустевшего вагона оставшимся посреди степи людям махали, кто чем, люди, едущие дальше.
— С благополучным приземлением вас, Федор Иванович, — поздравил его Белопашинцев. — Как сел, так и слез.
— Не понял.
— Понимать нечего: на ходу все делается у вас.
— А-а… у вас?
— Помоги, пожалуйста, — подал Анатолий связку книг Чамину, чтобы не затевать дурацкой перебранки, но Федька заложил руки за спину и сбежал с насыпи, будто не видел и не слышал ничего.
Анатолий тоже сделал вид, что его ничуть не задела эта бестактность, а в душе все же неприятно было. Неприятно, когда от тебя прячут руки за спину и отворачиваются. Пусть даже такие, как Чамин. А если без «пусть»? В каких-нибудь десяти шагах от него рвали ковыль, грелись на солнышке, тренькала гитара, дымились сигареты, начиналась своя дорога.
Читать дальше