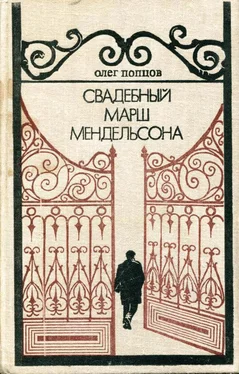— Да, чуть не забыл, — спохватывается папа, — Адка-то в командировку укатила. — Смущенно покашливает, словно это покашливание может скрасить неловкую ложь.
Внезапно, срочно! Подхватилась и поехала в Волоколамск. «Экспериментальная школа. Интересно, помрачительно! Приеду — расскажу».
— Ты же ее знаешь? — говорит папа. — К тебе не дозвониться. Вот поручила мне передать, уладить, успокоить. Три дня пролетят, и не заметишь. Душу отведешь, в шахматы поиграем, — папа заглядывает мне в глаза, ему не по себе от моего молчания.
А я не просто молчу. Я думаю. Не о том, не про то говорит папа. Неспокойно на душе. «Она мать твоих будущих детей». Такие слова впопыхах не произносят. Ерундовину папа плетет, дым словесный.
— Черт подери! Куда подевалась Адка!
Папа повисает на мне, силой усаживает в кресло.
— Тише, Иннокентий, тише! Чего ты, ей-богу! Дело житейское, поправимое. Я как лучше хотел. А ты вот шумишь. — Папа вытирает выступивший пот, обмахивается платком. — Здоров ты, братец. Молчал ведь до этого. Вот и сейчас помолчи. И я с тобой за компанию успокоюсь… Аборт она сделала. Такая история.
Я поперхнулся, не понял, замотал головой:
— Аборт?! Зачем? Где она?
Необходимость в вынужденной лжи отпала, папа разом успокоился, говорил бесстрастно, с угнетающей прямолинейностью:
— Зачем, почему… Не хочет иметь от тебя ребенка, потому.
— Но… мы никогда не говорили о детях…
— Оно и видно. Ада боится остаться одна! Думает, что ты ее бросишь.
— Я?! Как можно? Я не давал повода.
— Это тебе так кажется. Она думает иначе. Вся эта история с сестрой Лидой слишком на виду.
— Какая история, что вы говорите?
— И та и другая — мои дочери. И мне, как никому, тяжело об этом говорить. Но я говорю, как видишь. Молчание не искупает грехов.
— Она в больнице?
— Нет.
— А где?
— Там все в порядке. Она не хотела, чтобы ты узнал о случившемся.
— Такие вещи невозможно скрыть.
— Невозможно, — вздохнул папа.
— Я ничего не знал. Вы верите мне?
— Да ты не кричи. Не у меня тебе доверия надо искать.
— Я хочу ее видеть. Немедленно, сейчас же!
— Странный вы народ, молодые. То силой не заставишь поговорить меж собой, чепуховину уладить. А тут нетерпение: немедленно, тотчас. Она, Иннокентий, в таком состоянии, когда желание встречи должно быть обоюдным. Не нужно вам сейчас встречаться. Жалости она не примет. А обидеть еще успеешь. — Папа побледнел, заговорил взволнованно: — Я тоже хорош — придумал себе мир и витаю в нем как ангел. Мужская солидарность и все такое… А теперь…
Я видел, как сжимаются папины руки, стараясь удержать остатки взвинченности. Но это был не папин стиль; не его манера говорить.
— Что же ты творишь?! — сказал папа свистящим задыхающимся шепотом. — Ты ее оберегать, лелеять должен. Она ж, Иннокентий, детей любит. Как увидит, мимо первоклашки идут, непременно потрогает их, погладит. Руки не умоешь: дескать, массовый эгоизм — для себя пожить хочется. Отчаяние! — сказал папа куда-то в пустоту. — Нет, немедленно нельзя. Да и зачем? Через три дня. — Папа потянулся к часам, щелкнул крышкой. — Теперь уже через два. Через два дня встретитесь.
— Такая история, мой четвероногий друг. Она не доставила тебе радости. Твои глаза печальны. Ты устал слушать. А может быть, боль человеческая понимаема тобой, а? Не в этом суть. Прошли два дня. Да-да, те самые два дня. Ты мой талисман. Выговорюсь перед тобой на счастье и поеду.
Кеша сложил попарно щетки, кинул их в ящик. А по конюшне уже неслось:
— Эй, Савенков! …авенков!
— Тут я, тут!
— Чего ж голоса не подаешь? Ваши лошадей седлают, торопись.
— Бегу, Капа, лечу, спотыкаюсь.
— Ну, тафай, тафай, Сафенкоф. — Капа смешно передразнивает Уно Эдуардовича.
— Пошли, Орфей. Впереди еще один день.
* * *
Дорога под ногами ползет. Земля уже холодна, снег падает очень быстро, и нет тепла, чтобы растопить его. Снег лежит грязно-белыми заплатами на вспаханном поле, на дороге. Лужи будто затянуты мучной пылью. Силы убывали, идти становилось все труднее. Каждый шаг отдавался тупой болью в голове, ломило грудь. Тяжело уже не просто идти, а даже поднимать голову, которая налилась этой вязкой сыростью. Глаза закрываются против воли. А снег все идет, уж и дороги не видать. «Замерзну», — подумал Орфей.
Он давно ждал, когда начнет мерзнуть, прислушивался, будто холод можно услышать и уж только потом почувствовать. Неожиданно снег сменился дождем. Закостеневшая от холода и сырости спина стала оттаивать. «Теплее?» — шевельнулось в мозгу. Шевельнулось безответно, теплее — холоднее. Орфей просто услышал, как по занемевшим бокам сечет быстрый дождь. Он вспомнил, что давно не ел. Теперь даже слежавшаяся солома казалась лакомством. И желтая с восковым отливом, пропахшая земляной пылью скирда, он так нерасчетливо оставил ее, не давала покоя. Ему мерещилось: вот-вот он наткнется на такую скирду. Орфей пробовал идти прямо через поле. Ноги тонули в клейкой земле. От земли шло тепло и горьковатый запах. Тепло он чувствовал брюхом, а от запаха слезились глаза. Он скоро понял: идти по полю у него не хватит сил, он увяз уже по брюхо, и, если сейчас не повернуть назад, на что тоже нужны силы, их и вовсе не останется, он рухнет на подломленные ноги и, не чувствуя боли, утонет в этом сыром и холодном мраке. Он двигался по полю скачками, выдергивая из разжиженной земли обе передние ноги разом, затем попеременно задние. Он искал глазами дорогу, но дождь смыл все оттенки, все было одинаково грязно, и угадать дорогу в этих плывущих полях было невозможно. Ему казалось, он идет к дороге, и он шел. Когда передние ноги нащупали твердь и ушли в жижу лишь по колени, сил уже не было понять, обрадоваться. Орфей повалился на бок и закрыл глаза. В груди тяжело ухало сердце, с трудом расталкивая загустевшую кровь. Ветер вьюжисто гудел на одной ноте. «Знакомый звук», — подумал Орфей. И он не ошибся. Так гудят на ветру провода.
Читать дальше