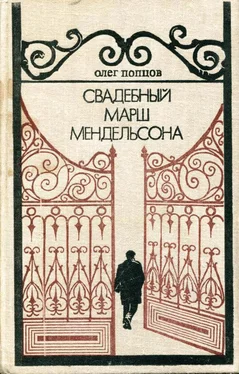Тишина. Тысяча ощущений, тысяча тональностей, красок. Тишина утра, тишина вечера. Мы молчим, и слышно биение нашего сердца, и воздух чуть подрагивает от нашего дыхания. Тишина предчувствия. Тишина ожидания. И не понять, что сдерживают сжатые накрепко зубы, крик радости или крик отчаяния.
«Все!» — не разжимая губ, нутром отвечаю первым, и шеф сбрасывает очки, расслабился, требует огня.
«Не вызывает отвращения, — говорит шеф. — Руководитель группы и озеленитель останьтесь. Остальные свободны».
Уже позже, уже в мастерской сквозь «ура!», сквозь «даешь!», «качать его, качать!» как голос из другого мира: «Звонил папа, просил заехать в институт».
— А, Иннокентий! Рад тебя видеть. Ты не забыл этот кабинет?
Папин маскарад мне непонятен. Расстались утром, расстались обычно. Папа весел, говорлив: пятница — папин любимый день. За завтраком папа говорит о политике, только о политике.
— Консерваторы потеряли еще девять мест в парламенте. Их дело табак, — говорит папа. Газета шелестит перед моим носом. — Штраус выступил против ратификации. Барцель призвал фракцию одобрить договоры. Знаем мы эти штучки. Предвыборный трюк. Как ты считаешь?
Я думаю совсем о другом, машинально киваю — правильно, мол. Уж что-то, а их штучки мы знаем.
Наконец газета прочитана, чай выпит. Папа с кряхтеньем поднимается.
— Разладилась, — говорит папа и потирает поясницу.
Таким было утро. А значит, и вечеру полагалось быть таким. Но где-то кто-то что-то перепутал. И после работы я застаю папу совсем непохожим на себя. И мне кажется, что радостный, бодрый утренний папа — это папа из прошлой недели. Когда у него не болела поясница. И эти проклятые тори наконец провалились на выборах.
— Садись, Иннокентий, кури. Хочешь, попробуй трубку. Ты ведь любишь трубку? У меня есть запасная.
С чего он взял, какая трубка? Я и сигареты ношу в кармане только для того, чтобы угостить друзей.
Папа устраивается в кресле, бросает на стол кожаный кисет. Наш разговор надолго, скрывать столь примечательный факт папа не намерен.
— Значит, ты уже все решил. Решил сам, без натужных советов со стороны. Нотации тебе надоели. В опеке ты не нуждаешься. В поводырях тоже. Молодец. Я всегда говорил: «Иннокентий — человек самостоятельный».
Смотрю на старика, хочу понять, осмыслить его сарказм. «С какой стати он разговор затеял, он, человек, живущий в мире иллюзий, пугающийся даже намека, что, дескать, не все ладится? Замашет руками, задвигается, примется разуверять: «Показалось, любви без разлада не бывает. Возьми для примера мой опыт». И так далее, и тому подобное.
Папу словно подзуживает кто. Он не слышит меня, не чувствует моего протеста. Настроился на свою волну, теперь его не остановишь.
— Правильно! Старики невыносимы. Возрастной комплекс — помешались на опеке. Делай то, говори это. В тягость, все в тягость. По себе знаю. — Неожиданно Константин Аверьяныч встает, наклоняется ко мне: — Слушай, окончательно и бесповоротно? Кому пришла в голову идея? Такой шаг необходимо обосновать. Два года — это не срок. Я предупреждал. Не торопитесь. Не послушались, приравняли к очередной нотации. И вот итог. Уже все решили, есть обоюдное согласие. Ведь так?
У меня голова идет кругом от этих выкриков, выпадов, намеков. Папа бегает по кабинету, и я должен следить за его движениями, запоминать, что он говорит.
— Да что случилось, вы можете мне объяснить? Я в этой игре не участвую. Если только ваша дочь…
— Скажите, пожалуйста, запомнил: моя дочь! У вас прелестная память, Иннокентий, пытливый ум. Вы деятельны, красивы, и вообще у вас уйма достоинств. Но, видимо, в вашем мозгу сложилась не та комбинация цифр. Надежда к тому же еще и ваша жена, мать ваших… — Папа запнулся, покраснел. — Я хотел сказать, мать ваших будущих детей, если, конечно…
Что со мной? Я разучился говорить спокойно. Я произношу слова, и они тотчас взрываются громогласными восклицаниями:
— Я не просил у вас пояснений на этот счет! Мы ссорились, это правда, — кричу я, — но…
— Да не кричи ты, ради бога! — Он тычет рукой в трясущуюся бороду, тычет слепо, никак не ухватит, не разгладит ее. — Сестра Лида… Моя старшая дочь… Вас что-то связывает?
Не буду отвечать. Какое ему дело? Он так старательно закрывал на все глаза, что, открыв их внезапно, может ослепнуть.
— Мы — родственники, — говорю я. Этим сказано все. Ответное молчание, но взгляд красноречив. «Все ли?!» — хочет уточнить папа. Папа натянуто смеется, хлопает себя по бокам.
Читать дальше