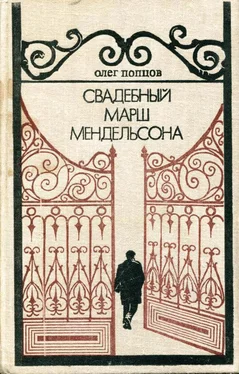— Вы упрощаете, — возражает папа.
— Отчасти да. Когда есть крыша над головой, можно подумать, чтобы она была ажурной. Мне наплевать, как смотрится город с высоты птичьего полета. Каким его видит космонавт. Когда я смотрю на любой город, я знаете о чем думаю: много ли в нем очередников.
— Значит, мы строим хорошо?
— Ничего не значит. Никогда нельзя сказать — хорошо. Теперь мы строим лучше.
— Позвольте, — возмущается папа, — больше не значит лучше. Вы строите времянки.
— Все в мире относительно, — защищаюсь я. — Дома-коробки — плохо, но это в тысячу раз значительнее, чем никаких домов. Они есть, и это позволяет подумать, как сделать их лучше.
Папа готов вспылить. А я готов ему ответить. Пусть знает, мы выросли из коротких штанишек.
— А почему бы вам еще не выпить чаю?
Мы увлеклись, мы ничего не видим, мы слышим только себя. Сестры сидят уже обнявшись. Фрагмент семейной фотографии.
— Благодарю вас. С удовольствием. Так что я хотел сказать?.. Ах да… Вы преувеличиваете.
Папа смеется:
— Категоричность погубит вас.
— Не думаю, вас же она не погубила.
— Мы разрушали, чтобы строить заново. Наша категоричность была духовной зрелостью, неприятием старой системы. Но при всем том мы были более уважительны.
— Надеюсь, вы не отрицаете, что делали ошибки?
Папа поправляет очки.
— Общество, создаваемое впервые, должно пройти через все. В том числе и через ошибки тоже. Но у нас было главное — идеалы.
— Прекрасно сказано. У нас они тоже есть.
— Слава богу, значит, еще не все потеряно. Каковы же они? — На папиных щеках возбужденный румянец.
Я усаживаюсь в кресло поудобнее. Я не скажу ему ничего сногсшибательного. Папа есть папа, с этим приходится считаться.
— Идеалы… — повторяю я несколько раз. — Идеалы незыблемы. Пути их достижения иные.
— Вот как, — папа наклоняется в мою сторону. — А если конкретнее?
— Можно и конкретнее, — согласился я. — Уметь сомневаться — значит уметь создавать.
— Ну что ж, — вдруг говорит папа усталым, поблекшим голосом. — Мы отвергали сомнение. Может быть, мы увлеклись и не смогли остановиться. Вы, — папа развел руками, — возвели их на пьедестал зрелости. Кто знает, какой урон потерпите вы. Рассудит жизнь.
— Уважаемые мужчины, азарт полемики лишил вас ощущения времени, — сестра Лида поднимается из-за стола. — Мы понимаем, вы нуждаетесь в слушателях и в зрителях тоже, но примите как должное — зрители и слушатели устали. Баиньки пора.
— Да, да, да. Мы деспоты. — Папа страдает дальнозоркостью. Часы отнесены на вытянутую руку. — О, без семи минут час. Каково, а? Иннокентий Петрович, мы не джентльмены. Печально, но факт. Не джентльмены.
Папа привычным жестом взбивает бороду, поочередно целует дочерей, пристыженно краснеет, словно допустил какую-то оплошность.
— Рад знакомству, — говорит папа.
Я ничего не говорю. Мне положено смущенно улыбаться и бормотать извинения за внезапный визит.
Ада и папа провожают меня до дверей.
Мы жмем друг другу руки. Не сильно, но ощутимо, как положено это делать мужчинам. Я настроен ее поцеловать, но папа есть папа, с этим приходится считаться.
Еле заметный поклон в темноту. Еле заметный кивок из темноты. Папа выходит со мной на лестничную площадку. И только тут папа вдруг спрашивает:
— Скажите, вы действительно разыскивали мою дочь или эту идею подарил вам я?
«Забавно, я полагал, его интересуют проблемы современной архитектуры…»
Засмеяться в ответ, дать понять, как наивны его домыслы? Приняться разуверять? Пусть видит — для меня оскорбительно недоверие. Он ждет. Если есть сомнения, их не развеешь одной фразой.
— Мне думается, на этот вопрос правомернее ответить вашей дочери. Мне вы все равно не поверите.
— Вы меня не так поняли…
Но я уже не слышу продолжения фразы. Лечу вниз сломя голову. Мы квиты.
* * *
День угасал. Лучи солнца уже не касались земли, и только окна верхних этажей домов, что стояли в отдалении, вспыхивали пожарным заревом. Как же было хорошо упасть на траву, лежать не шелохнувшись, чувствовать сладостный запах молодой земли и ни о чем, решительно ни о чем не думать! Еще нет вечерних холодов — самое начало лета. Нагретый воздух, лишившись солнечного тепла, тихо, спокойно остывает.
Орфей ступает осторожно и так же осторожно скусывает еще не разветвившиеся сладковатые стебли молодой травы.
Внезапное конское ржание встревожило Орфея. Он замер, повернув голову в сторону лошадиного зова. Ждал его повторения.
Читать дальше