Окопчик надолго задержал их. Но их объятия и поцелуи скорее напоминали вражескую перестрелку, нежели ласку и любовь. То двигались, бежали их годы. Они догоняли те годы, избавлялись от их призрачных теней. Теней тех, кто стоял между ними в те годы. Целовались, а тела их были неподатливы, напряжены. И только когда он держал уже Вольку на руках, она покорно обмякла.
— Нет, Яночка, нет. Только не здесь. Пойдем туда, где, ты говоришь, ручей, а я — нету ручья. Где ты отказался меня ударить. Где наши качели. Ты повесил их, взлетел выше дуба и сорвался. Я увидела, как у тебя пошла изо рта кровь, закрылись глаза. Вместо того чтобы помочь, пожалеть тебя, вытереть хотя бы кровь, кинулась на те качели. И от земли — в небо, с неба — опять на землю. И снова в небо. Я такая легкая. Как то семечко хвойное, про которое ты рассказывал... Почему я одна говорю, а ты молчишь?
— Говори, говори, я слушаю.
— Я, как семечко, как комарик, лечу и попискиваю. В землю хочу, прорасти хочу. Но такая легкая, такая летучая, что, чувствую, брошусь, качелей все равно земли не достану, не упаду рядом с тобой. Полечу еще выше И полетела. Но тут вы остановили качели. И долго-долго не могли разжать мне руки, оторвать их от троса, слабаки. Тогда вы отлупили меня.
Потом было долгое забытье и тишина. И в той благодатной тишине испуганно неожиданно вдруг начала куковать кукушка. Забралась, видимо, в чужое гнездо, и сейчас ее оттуда погнали. Кукушка не хотела уходить на ночь глядя, сопротивлялась, разбудила лес и Вольку с Но Пасараном разбудила. Они слушали это ее кукование, одновременно загадав, сколько им еще отпущено лет.
— Пятьдесят один, — сказал Данилюк.
— Нет, сорок девять.
— Пятьдесят один!
— Не будем спорить. Тебе больше. Живи всегда. Живи!
Оба они лежали навзничь и немного наособицу. Волька дотянулась, нашла его, но тут же отдернула руку. Нащупала что-то колкое и твердое возле его правого бока. Приподнялась, поднесла к глазам. То были сосновые шишки. Целая горка под правым и левым его боком. Она ухватила их в две горсти и бросила в лицо Данилюку:
— Притаился, молчишь. Значит, тебе, как и мне тогда. Я драла мох, а ты греб шишки. — И Волька заплакала.
— Ты была права, — сказал Данилюк. — Ручья того в самом деле нет. Ручей совсем в другом месте. Только и там он давным-давно пересох. Даже не пересох... — И Данилюк замолчал, будто язык у него отнялся.
— Что же с ним случилось, с ручьем тем? — всхлипывая, спросила Волька.
— Пойдем покажу... Хотя нет. Туда мы не пойдем. Туда я сейчас никогда не хожу, даже когда в дугу пьяный. И тебя не поведу.
— А я хочу хочу. Я на тебя обижусь. Слышишь, я на тебя обижусь. На всю жизнь.
Он приподнялся на локте и долго пристально смотрел ей в лицо. Не сводил глаз. А взгляд был отсутствующий, далекий. Наконец заговорил, но словно самому себе или кому-то невидимому третьему:
— Умри и будь!
— Ты что, Яночка? О ком это ты, кому? Что ты сказал, что ты сказал?
— Волька, похоже, испугалась.
— Что я сказал? — удивился Данилюк. Я ничего никому не говорил. Я молчу. Молчу. Слышишь, молчу.
— Яночка, что же ты так, Яночка? — Она прильнула к нему, стала тормошить его. Он не отозвался. — Осуждаешь? Размягчил старую бабу. Сорок лет — бабий век. После сорока — все они мягкие. Им уже много не надо. Осуждаешь...
— Нет, ни тебя, ни себя, — ответил Данилюк. — Над нами уже другой суд.
— Тогда пошли к ручью. — Она вскочила на ноги. — Только к ручью, слышишь? Только к ручью.
Но перед тем, как отправиться к ручью, они наведали свое тридцать лет назад зажженное огнище. Волька и сейчас потребовала разжечь костерок и минутку, одну только минутку посидеть возле него, как тогда, но обнявшись.
— Согреться надеешься?
— Мне и так с тобой не холодно. Неужели не понимаешь?
— Понимаю. Потому и прочь отсюда. Кина не будет. Кинщик пьян. Пошли, и быстрее.
Разжигать костер Данилюк отказался наотрез. Они только заглянули в бывший колодец, посмотрели на затянутую ряской черную воду, из которой на них зыркнула толстая и зеленая, под цвет ряски.лягушка с большими, красными, навыкате глазами. Под светом другой спички постояли на бывшем пепелище. Спичка догорела до конца, обугленно скорчилась и, остывая, выпрямилась, когда в ней уже исчез и жар.
— Вот так и с костром нашим, — сказал Данилюк. — Погас и погас.
— Какой же ты жестокий, что только время с тобой сделало. К ручью-то пойдем?
— К ручью сходим. Последний раз...
— А чем это несет так? На весь белый свет вонища, — спросила Волька, едва они сделали первый шаг от былого своего огнища.
Читать дальше

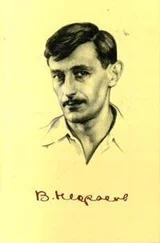


![Виктор Козько - На крючке [Рыбацкая повесть в рассказах]](/books/62444/viktor-kozko-na-kryuchke-rybackaya-povest-v-rasska-thumb.webp)


