— По-черному...
— Похмелись.
— Поздно, Воля, поздно. Мы рано выросли. Поздно стали взрослыми. Рано состарились. Поздно образумились. Били вужиков, а верили, что гадюк. Мне поздно уже.
— Эх, Янка ты, Яночка. Если бы ты знал, Яночка. Ну, почему ты стал Но Пасараном?
— Просто... Дядька в Испании воевал... Я в Корею собирался с американцами сражаться. И во Вьетнам рвался. Чтобы ты знала, я еще и Ли Си Цин. Я в Афганистан уже собрался, но оказалось, что негоден: рядовой необученный, к строевой службе в военное время непригоден.
— Лысый ты мой, старый, никуда негодный. Што ж ты в том Афганистане оставил?
— Хотел кого-нибудь спасти. Чтобы кто-то, хоть один, живым остался... Соседке из Афганистана привезли три цинковых гроба. Три танкиста. Три веселых брата. Тройняшки.
Они уже опять шли по лесу, как и прежде, взявшись за руки, ладошка в ладошку. Та же яркая и полная луна освещала дорогу. И под луною им было как при солнце. Заповедно мирно на своей заповедной земле и в своем времени. А они вступили вновь в это время, как только вошли, приблизились к молодому, очень уж аккуратно посаженному лесу. Квадратом, ровными рядами и шеренгами. Подошли к одной стороне этого квадрата — стена. Хвойки так плотно стояли одна возле другой, так низко припали к земле колючими ветвями, что не пройти и не подлезть. Волька напряглась и прижалась к Но Пасарану.
— Я боюсь его, — сказала она. — Этот молодняк чужой мне. Он не помнит меня.
— Не бойся. Не чужой. Хвойка. Милее дерева на свете нету. Она и на колыску, она и на гроб. И помнит лес тебя. При тебе же сажали. Ты же сама и сажала... С такого вот махонького-махонького, что комарик, семечка и с крылышками. И летит оно по ветру и попискивает тоненько, в землю просится. Расти хочет. Сила в нем огромная, неудержимая. Распирает его. Деревом хочет стать, хвоей. И стало. Смотри, мать, смотри.
— Не была я матерью. Не довелось. Боюсь, не пустит меня лес.
— Наш лес да к нашей хате нас не пропустит? Быть того не может.
— А может, и не надо, Яночка. Может, и не надо. Зачем сердце рвать. Я там тридцать лет не была. Ты бываешь? Расскажи мне, и я поверю.
— Волька, чураться своей хаты, что матери от детей отрекаться. — Но Пасаран был напорист и деловит. — Пошли.
— Подожди, не могу. Ты расскажи мне сначала, расскажи. Часто вы там собираетесь?
— Никогда. Я хожу. Напьюсь и в ночь, полночь — сюда. На старом нашем огнище костерок разложу... Теперь дров много. Много дров. Это тогда не было. Тогда мы, как мурашки, по лесу ползали, сучья собирали. Крюки делали — сучье ломать, помнишь? Мы, хлопцы, ломали, а вы носили. Помнишь?
— А кроме огня, кострища что там у нас? Как там яблоня наша?
— Старая яблоня, житница, засохла. Наверно, без присмотра. Но дички пошли. Не поверишь. Глянешь на комель и не подумаешь, что яблоня. Граб или клен. И только когда под ноги себе посмотришь... Видишь, яблоки — яблоня это, значит.
— Яблоки большие, красные, сладкие...
— Откуда? Дички же. После зимы, после морозов — сладкие. А летом, осенью? На похмелье только.
— Дички на похмелье...
— Да. И груши-дички. Гнилки.
— Не пойду.
— Волька, я обижусь...
— Волька-Колька... Я тебя уважаю, ты меня уважаешь?.. Горе ты мое, горюшко. Пошли.
И снова рука в руку. И снова они нырнули в хвойную навись местами припадавших к земле ветвей. До самой земли приходилось гнуться и им.
От земли пахло грибом, смолой, молочным зайцем и ежиком. Безветрие и ночь удерживали эти запахи, не давали им рассеяться, пропитывали ими дыхание и одежду. Казалось, что такой же запах исходит и от самой луны. Мир, вселенная дышат грибами, смолой-живицей, молочностью молодых зайцев и ежиков. На земле первозданность. Мир добр. Полная луна на небе — пастух и охранитель.
Но идти и в этом добром мире, даже согнувшись в три погибели, под присмотром и напутственным светом луны было трудно. Хвойки высаживали по казарменному ранжиру. Но сама земля, которая произвела их на свет, взяла на свои ладони и подставила их небу — вся в ранах, шрамах и рубцах, оставшихся от войны, окопах, брустверных насыпях. Все это, конечно, уже зарубцевалось, поросло мохом-травой, но не пригладилось окончательно. И хотя они угадывали эти воронки и траншеи, подъемы и провалы выматывали силы.
А в тех провалах еще было и удушливо. Удушливо от настоев этой ночи и ночи.прошлой, по свежекровавому следу которой оба они пробежались еще в детстве, прошлись босыми ногами. По еще необтоптанным и не приглаженным дождем и снегом воронкам от разрывов снарядов и бомб, по горкам своих и чужих отстрелянных и прихваченных ядовитой цвилью патронов. Патронов, что еще не успели выстрелить. Было удушливо и от собственных давних страхов. Страхов не только от виденного, но и того, что ощутил при этом, страхов, которые были не только их, но и всех тех людей, что полегли здесь.
Читать дальше

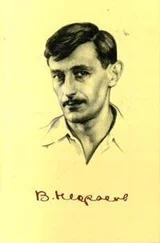


![Виктор Козько - На крючке [Рыбацкая повесть в рассказах]](/books/62444/viktor-kozko-na-kryuchke-rybackaya-povest-v-rasska-thumb.webp)


