— А ты что, раньше не чувствовала?
— Когда раньше, в детстве?
— В детстве этого не было. Чуть раньше. Там, в окопчике. И под дубом возле качелей.
— Там другой был воздух.
— Ветер потянул. Скоро утро. Ветер еще слабый. Может, не пойдем? Когда совсем проснется ветер, мы будем уже дома, Волька. Будем дома. — В голосе Данилюка было что-то такое, что вынудило ее остановиться.
— Но я хочу, Яночка, прежде чем проститься нам с тобой навсегда, посмотреть на тот ручей, на ту воду. А вдруг я все еще там. Пошли, пошли.
Уже через сотню шагов вонь стала нестерпимой. И теперь уже Волька хотела повернуть назад. Но Данилюк не позволил:
— Раз пошли, так уж до конца. Тут недалеко. Метров пятьдесят еще, поляна — и ручей.
Они дошли до него. Ручей был. Но лучше бы его не было. Зловонная маслянистая жидкость, ежесекундно кряхтя и пульсируя, словно это было нечто живое, тот самый вужик, которого некогда Данилюк вместе с ребятами убил. Убил еще до захода солнца, и вот теперь в ночи он трупно разбух, набряк, разросся до гигантских размеров, вытянулся и ожил. Й дышал сейчас, как стоглавый змей, огненный дракон.
— А ты не ошиб.ся, это тот самый ручей? — шепотом спросила Волька. — В этом ручье я когда-то была?
— Я в нем был, — также шепотом ответил Данилюк. — Прятался от шершней. Я и сейчас в нем... Но он был чистый, ты веришь?
Волька передернула плечами, сжалась. А Данилюк неожиданно с шепота сорвался на крик:
— Чистый, чистый! Он и сегодня чистый. Ты слышишь?
— Чистый, чистый, Яночка. Ну не надо, не кричи. — И она кинулась ему на шею, как час-полтора он к ней там, в окопчике. — Ты чистый. Пойдем, бежим отсюда. Зачем ты меня, глупую, послушался. Не всегда женщину надо слушать.
— Ты хитришь со мной. Ты всю жизнь хитрила. Посмотри, все до последней песчинки на дне видно. И песок, как золото, чистый и тяжелый. И бокоплавы по нему, видишь, ползают. И жук-плывунец, видишь, видишь... То шершень ожил, который за мной гнался. Я убил его тогда. Он в воду упал. А вода живая. И он ожил. Только не смог выбраться, в жука-плавунца оборотился, доброго толстого жука. И рыбки там плавают, окушки, пескарики дышат. Смотри, а это ведь ты. Посмотри на себя, какая ты была. А тот хлопчик вихрастый — это же я. Дай руку, и мы пойдем.
Данилюк протянул Вольке руку и, не дождавшись ее руки ступил в ручей по колено погряз в зловонной жиже.
— Идем же. Нам только ручей перейти. А там, видишь, небо какое синее солнце какое ясное. И коровы наши пасутся...
— Янка, Яночка! — закричала Волька. — Остановись. Вернись. Ты надышался смуродом и отравился. Ты по колено... От этого уже и не отмыться... Это же не вода..
— Что ты сказала? Договаривай. Я что, сумасшедший по-твоему? — Он опустил протянутую навстречу ей руку, скрипнул зубами и забормотал: — Нет, нет. Это все вокруг сумасшедшие, один я... Нет! Нет!.. Что ты сказала? Кто пьяный? Я по одной дощечке могу. Я... Все могу. А ты... Кто ты такая? Кто ты такая? Ты чистой воды боишься. А если нет, иди ко мне. Не хочешь, боишься. Ты дочка врага народа — вот кто такая. И ведьмарка» -Род твой такой. Вот почему ты и со Шнобелем. Я все понял. Я давно уже все понял. Хватит, хватит... Нет и никогда не было меня. И тебя никогда не было. Ты слышишь, никогда не было и не могло быть. Вот такая любовь. Вся до копейки...
Про эту свою любовь всю до копейки рассказал мне на следующий день сам Данилюк. Все до последней копейки рассказал. И про полную луну и ночь, про тени и звезды-знички, окопчик-бруствер, качели, наш храм-хату, наше старое, огромное некогда, на всех марсиан огнище. Но теперь оно, как шагреневая кожа, съежилось до костерка-тепельца на одного. Про то, что было у них с Волькой под качелями, рассказал. Все...
Но. оказывается, совсем не все. Ни словом не обмолвился о ручье — фекальных стоках мясокомбината, огромных копанках, куда больше Дубашихиной, нечистот. Обо всем этом мне говорила вчера, когда Данилюка не было уже на белом свете, сама Волька.
— Куда вы только смотрели. Он же сумасшедший. Ему все время чудилось, будто кто-то за ним гонится. У него мания преследования. Чудился топот всадника.
— Это какого еще всадника, Волька?
— Откуда я знаю, какого всадника. Местного, медного? Ему что хочешь может причудиться. Екатерина Вторая и Иван Грозный, какие-то железные кони.
— Какие кони? — добивался я своего, потому что мне надо было знать точно. За этим стояли моя собственная тревога и боль.
— Не знаю. Говорю, что ему все может причудиться — Исус Христос и Карл Маркс. Только подошли к огнищу, он: кони скачут, кони скачут, догоняют. Лягушку увидел: вот они уже здесь. Сумасшедший, одним словом...
Читать дальше

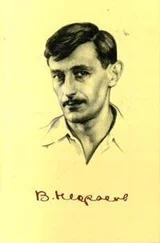


![Виктор Козько - На крючке [Рыбацкая повесть в рассказах]](/books/62444/viktor-kozko-na-kryuchke-rybackaya-povest-v-rasska-thumb.webp)


