Александр Данилыч улыбнулся.
«Мерзнет, поди, арап… Ничего, потерпит. Надо, чтоб даже малые людишки мою силу чуяли, а то великую амбицию иметь захотели».
Меншиков прикрыл глаза, попытался вздремнуть, но почувствовал, что не удастся. Перед глазами стояли злые, окаменевшие лица верховников, и это не нравилось Александру Данилычу. Многое не нравилось ему в последнее время. И то, как держится его зять — длинноносый прыщавый мальчишка — государь Петр Второй: дерзит, на поклоны не отвечает и даже ногой топает, волю свою проявлять пытается. Не нравится, что сблизился малолетний император с Долгорукими, лишенными после дела Девьера чинов и деревень, но вновь обласканными этим венценосным несмышленышем.
«Слава богу, что Остерман рядом с государем. Удержит. И слава богу, что Катерина так премудро завещание составила. Жаль, умерла рано, дело до конца довести не дала».
Он тяжело вздохнул, вспомнив последний разговор с ней.
…Императрица лежала одна в затененной, обтянутой игривыми французскими гобеленами спальне, пропитавшейся стойким запахом духов, пота, целительных трав и чужеземных снадобий, бальзамов, микстур. Осунувшееся лицо женщины, с резкими морщинами около рта, казалось безжизненным желтым пятном. Только глаза, черные, большие, нездорово блестевшие от болезни и возбуждения, говорили о том, что государыня жива. Меншиков, стесняясь своего огромного роста и здоровья, замер, ссутулясь, у постели Екатерины. Он с жалостью смотрел на это маленькое, с багровыми пятнами румянца лицо, запутавшееся в черных, разметавшихся по подушке волосах, и горькая, иссушающая душу обида наполняла его.
«Вот и еще один самый дорогой и нужный человек уходит, — думал он тогда. — И остаюсь я один среди старой боярской псарни, которая спит и видит, как бы безродного Алексашку снова столкнуть в грязь, в навоз. Не на кого теперь будет опереться, ничьим именем нельзя будет отныне заслониться, и придется одному пробиваться через злобу, ненависть и зависть людскую».
Меншиков вздохнул. Екатерина, измученным влюбленным взглядом изучавшая его лицо, тоже вздохнула.
— Светлейший, — свистящим шепотом окликнула она, — слышишь? Последний раз, чай, видимся. Умираю я.
— Полно, матушка, — с деланной бодростью пробасил Меншиков. — Ты еще нас переживешь.
Императрица слабо, благодарно улыбнулась и сразу же посерьезнела.
— Будет, Александр Данилыч. Не место и не время лукавить. Не о том я. Смерти не страшусь, хоть и жалко уходить. — Она с тоской смотрела на князя. Большая слеза выползла из налитого болью глаза, оставляя мокрый след на иссохшей коже щеки. — Отмучилась я, и нету во мне более страха… Я ведь всего боялась. Сперва Шереметьева, потом тебя, потом государя, потом титула своего. Все казалось мне, что кончится мой царственный сон и окажусь я снова у пастора Глюка или с гренадером под повозкой. Ты сильный, — улыбнулась вяло и как-то жалко, — ни бога, ни государя покойного не боялся, а меня так вовсе за дуру считал.
— Государыня! — укоризненно взревел Меншиков.
— Правда это, Александр Данилыч, правда! Много ты мне пакостей сотворил, да и сейчас… От меня вот отвернулся, смерть мою почуяв. К Петру Алексеевичу, внуку государеву, льнешь. Господь с тобой! Живи как знаешь. Зла я на тебя не держу, потому как люб ты мне. До сих пор люб.
Меншиков засопел, хотел упасть на колени, поцеловать желтую вялую руку Екатерины, утонувшую в золотисто-коричневой собольей опушке одеяла, но передумал.
— Спасибо, ваше величество, — церемонно склонил он голову.
Ожидание, светившееся в глазах императрицы, погасло, личико ее обиженно сморщилось.
— Грех тебе на меня обиду иметь, — отвернувшись, со слезой сказала она. — Губернатором Ингерманляндии, Эстляндии, Карелии помогла тебе стать. Андреевскую, Александровскую кавалерии добыла…
— Раб я твой, — усмехнувшись, перебил Меншиков и любовно провел пальцем по распятию на звезде Андрея Первозванного. — Однако и сам я не дурак, да и величию твоему немало способствовал, престол Всероссийский тебе добыв.
Екатерина резко перекинула голову на подушке, взгляд женщины стал жестким.
— Верно, умен ты и предан. Когда выгодно тебе. А что государю меня подарил, я не забыла. Век помнить буду, — медленно проговорила она. — Только ведь ты не обо мне, о себе прежде всего пекся. Не я ли гнев государев за твои лихоимства от тебя отводила? Не моими ли заботами ты, государем битый, опять над всеми вознесся? Смотри, князь, я жива еще и воли моей никто не ведает. Как бы тебе земель своих и городов со всеми титулами не лишиться да, как Девьеру, батогами на площади биту, на поселение в Сибирь не уйти.
Читать дальше
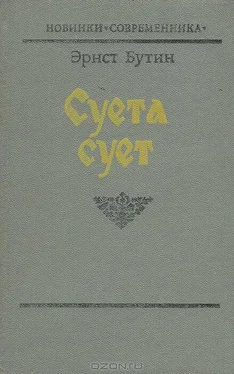

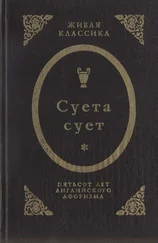






![Эрнст Бутин - Золотой огонь Югры [Повесть]](/books/417818/ernst-butin-zolotoj-ogon-yugry-povest-thumb.webp)
