Дарья Михайловна слезливо смотрела на него.
— Беда, Александр Данилыч. Государь Машеньку не принял.
— Как не принял? — не понял Меншиков.
— Так, не принял. Пошла она нонче с визитом, а он отказался принять.
— Что-о?1 — поразился Александр Данилыч. — Свою невесту? Мою дочь? Дочь мою отказался принять! Рассказывай! — потребовал у дочери.
Лицо Марии сморщилось, губы задрожали.
— А чего рассказывать. Вышел барон Андрей Иванович, улыбнулся эдак злоехидно и сказал, что государь-де примять не может и просит его более до особого на то разрешения не беспокоить.
Мария не выдержала, закрыла лицо руками и зарыдала со всхлипами и стоном.
Дарья Михайловна пискнула, но плакать под бешеным взглядом мужа не решилась.
— Та-ак, — выдохнул Меншиков, и губы его сжались в белую полоску. — Ай да Остерман! Ай да Андрей Иванович, хитрая лиса!
Он заметался по комнате.
— Ах ты, австрияк поганый, немчура проклятая, пес шелудивый. Я его обер-гофмейстером сделал, к государю в учителя поставил, думал — свой человек при императоре будет. А он? Мне руку лижет, ласки моей ищет, а за пазухой нож держит! На кого замахнулся?! На Меншикова! Государя, мальчишку-несмышленыша, супротив меня настраивает. И тот, царственный щенок, моим разумом государством управляет, а тоже в позу становится!
— Тише, — простонала умоляюще княгиня.
— Чего тише! — взревел Меншиков. — Кто его государем сделал? Забыл?! Кто ему уготовил державу, равной которой в Европе нет?
— Тише, Александр Данилыч, тише, голубчик, — торопливо крестилась Дарья Михайловна. — А вдруг это опала?
— Опала? — Меншиков резко остановился и повернулся к жене.
— А вспомни, вспомни, — зашептала она. — Пять ден назад на освящение церкви к нам в Ораниенбаум не приехал? А на тебя за те девять тысяч червонцев, кои поднесла ему гильдия каменщиков и кои ты у него отобрал, ногой топал? Кричал, что покажет тебе, кто есть император? А камердинера, что прогнал, назад принял? А Долгоруких, коих ты опале подверг, к себе приблизил?
Меншиков недоверчиво смотрел на нее, но ему стало страшно. Он вспомнил: когда примчался в Петергоф узнать, за что государь обидел, не приехал на освящение церкви, тот говорил с ним мало и неохотно, а когда назавтра Александр Данилыч пришел на аудиенцию, оказалось, что Петр уехал на охоту. Меншиков — к Наталье, сестре Петра, а та, словно и не великая княжна, вылезла в окно и убежала, и Александру Данилычу пришлось сделать вид, что он этого не заметил. Елисавета, семнадцатилетняя тетушка императора, боготворимая им, тоже хотела убежать, но не успела, выслушала жалобы светлейшего, не скрывая неприязни, и при первой же возможности ушла. Александр Данилыч не удивился — знал, что не любят, боятся, ненавидят, и привык к этому. Но вот вчера, когда Меншиковы вернулись из Петергофа, Александр Данилыч встревожился — оказалось, что вещи государя вывезены в Летний дворец, а ведь Петр с самого дня кончины Екатерины жил у Меншикова…
— Опала? — повторил Александр Данилыч, словно прислушиваясь к этому слову. — Да нет, не может быть. За что? За то, что сил и живота для отечества не жалею? Ничего, ничего, я сейчас поеду к государю и все выясню.
Он решительно направился к выходу, но в дверь кто-то робко постучал, створка медленно приоткрылась, и в щель несмело протиснулся Яковлев.
— Ваше сиятельство, камергер его императорского величества аудиенции просит.
Бровь у Меншикова удивленно поползла вверх.
Шестнадцатилетний князь Иван Долгорукий, красивый мальчик с насмешливыми порочными глазами, вошел нехотя, оглядел всех и с удовольствием доложил:
— Его императорское величество Петр Алексеевич повелел доложить светлейшему князю Меншикову, что отныне он, самодержец Российский Петр Второй, будет жить во своем дворце, потому как государю не пристало квартировать у вельможи. — Долгорукий помялся и нехотя закончил: — Велено передать, что гнева на князя Меншикова государь не держит и милостью своей его не оставил, — князь, не отрываясь следил за Марией и, поймав ее быстрый взгляд, радостно улыбнулся.
Меншиков тяжело задышал, стиснул челюсти так крепко, что буграми выступили желваки.
— Пошто зубы скалишь, князь? — тихо спросил он. — Не рано ли радуешься? Может, забыл, как в ногах у меня отец твой валялся?
Улыбка у Ивана Долгорукого угасла.
— Нет, ваша высококняжеская светлость, этого мы не забыли, — серьезно сказал он. — Дозвольте идти?
— Ступай.
Дверь за Долгоруким закрылась. Мария уткнула лицо в ладони, всхлипнула, Дарья Михайловна слабо заголосила. Александр Данилыч поморщился, хотел прикрикнуть на нее, но вяло махнул рукой и, ссутулясь, вышел.
Читать дальше
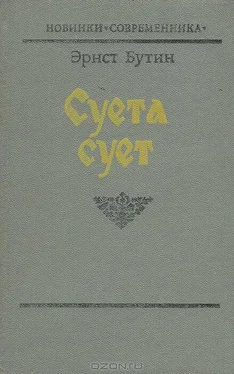

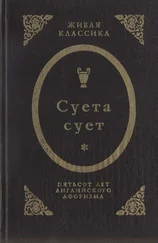






![Эрнст Бутин - Золотой огонь Югры [Повесть]](/books/417818/ernst-butin-zolotoj-ogon-yugry-povest-thumb.webp)
