Потом Марта стала Екатериной, звонко смеялась, прильнув к покатому плечу царя Петра, кокетливо косилась на Меншикова. Государь фыркал, ежился, как от щекотки, глаза его становились маслеными и дикими, а Александр Данилыч, радостно повторяя про себя «вот и дивно, вот и славно», подмигивал Марте, незаметно для друга-самодержца, а потом напивался до беспамятства, орал похабные песни, лез к государю целоваться, бил себя в грудь, кричал, что ему отдать дорогому кесарю и брату названому и жизнь не жалко, не токмо что иное, бросался в дикие загулы с непотребными девками, безобразничал, буянил, а по утрам рычал, рвал зубами подушку, матерился шепотом и, заплаканный, поносил последними словами «ливонскую потаскуху».
Со временем он успокоился, женился на давно приглянувшейся девице Дарье Арсентьевой, в присутствии Екатерины не терял голову, а смотрел на бывшую возлюбленную, когда не было государя, бесстыжими немигающими глазами. Но всегда, до последних дней императора Петра, приходилось теперь Александру Данилычу следить за собой, чтобы при встрече с Екатериной не выдать вдруг осипшим голосом или блеском глаз, что видит в ней не только государыню, но и женщину.
Сейчас же Меншиков обнаружил с удивлением, что не чувствует ничего: ни любви, ни горя, только легкий, с кисловатым, желчным привкусом, оттенок досады — не вовремя ушла. Екатерина с часу на час умрет, она ничем не могла помочь ему, все, связанное с ней, — в прошлом, а назад Александр Данилыч не умел и не любил оглядываться, и он думал об императрице спокойно и равнодушно, как о ком-то постороннем, как о чем-то очень далеком. Так же думал он когда-то и о муже ее, Петре, когда тот, перед смертью, стал болезненно-капризным, подозрительным — врывался вдруг в залу в ночной рубашке, с изуродованным злостью лицом, остекленевшими глазами, и орал, брызжа слюной, вскипающей в уголках рта: «Воры! Всех в пытошную, на дыбу! Всех на плаху!» Но тогда приходил иногда страх — что-то будет без Петра; тогда распирала радость — они с Екатериной остались править империей. А сейчас не было ни радости, ни страха: пусто на душе и очень одиноко, словно оказался вдруг в голом, выжженном поле, и нет вокруг никого, только копошится под ногами что-то человекоподобное, маленькое, серенькое, невзрачное…
Карета, качнувшись, замерла у огромного каменного дворца Меншикова на Васильевском острове. Князь лениво открыл глаза, и Вольф, секретарь, подчеркнуто стремительно дернулся к дверце, но та уже распахнулась, и Яковлев, второй секретарь, торопливо доложил, отводя глаза:
— Ваша светлость, княгиня Дарья Михайловна к себе ждут.
— Чего еще? — поморщился Меншиков.
— Не ведаю. Велено передать: с княжной Марией Александровной беда.
— С Марией? — Меншиков похолодел. — Что с ней?
— Не знаю, — отшатнулся Яковлев. — Княгиня вся в слезах и большой тревоге.
— Захворала? Не уберегли? — рявкнул Александр Данилыч.
Он выпрыгнул из кареты, подвернул ногу, выругался и, прихрамывая, бросился во дворец мимо съежившегося Яковлева, мимо замершего в страхе дворецкого, мимо окаменевших, застывших на месте лакеев.
«Не дай господь сильно заболела, — в голове шумело, мысли путались, — хотя с чего бы?.. Но Дарья зря звать не осмелится, не бывало такого. Ах, Машенька, Машенька… А что, если, тьфу, тьфу… Нет, нет, не может быть. Церковь, две церкви поставлю. Итальяшке Терезину велю лучший в Европе храм сделать. Посвящу его непорочной деве Марии. Пуд золота и оклад богородице в лавру пожертвую…»
Скользя по паркету, с грохотом, пинком, открывая двери, он подбежал к покоям княгини и вдруг замер.
«А как же свадьба с Петром? Неужто не состоится? Неужто не будет Маша императрицей? Это что же, все прахом пойдет? Свят, свят…»
Он с силой распахнул дверь и остановился на пороге.
Дарья Михайловна, растрепанная, с неприбранными волосами, метнулась к нему, но Александр Данилыч отстранил жену рукой.
Мария сидела у огромного, вывезенного из Венеции зеркала и отрешенно смотрела перед собой. Она медленно повернула голову к отцу. Лицо ее с покрасневшим опухшим носиком было заплаканным, а глаза, окруженные густыми синими тенями, — равнодушными и чужими. Сейчас в ней трудно было узнать ту надменную красавицу, которая в облаке духов и шуршании шелка проплывала по императорскому дворцу, под завистливое шушуканье придворных.
— Здорова? — удивился Александр Данилыч и грозно повернулся к жене: — Пошто страху наделала?
Читать дальше
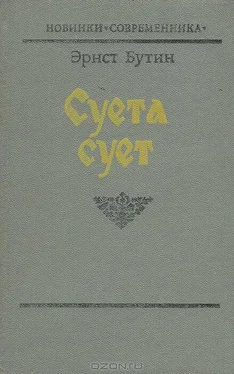

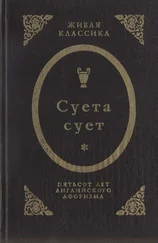






![Эрнст Бутин - Золотой огонь Югры [Повесть]](/books/417818/ernst-butin-zolotoj-ogon-yugry-povest-thumb.webp)
