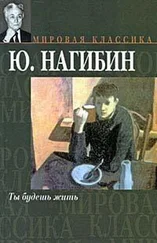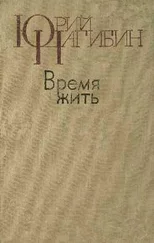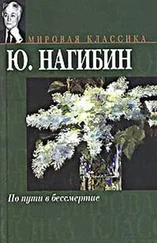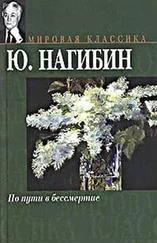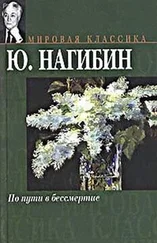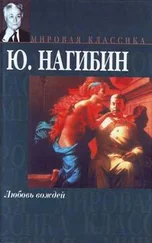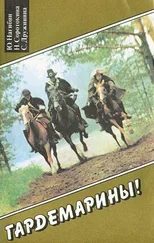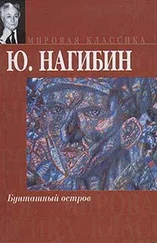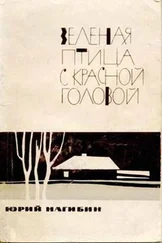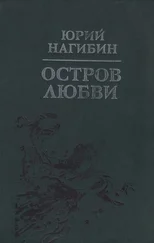— Я дал слово Федору… Я там… там, Наташа!.. Ты меня понимаешь?..
— Да, милый.
— Я люблю тебя, Наташа… Я трудно жил, но сейчас, сейчас… Господи, колокола! Откуда колокола?..
По развороченной, словно вывернутой наизнанку земле Ушастый тащил смертельно раненного Ивана.
Иван открыл глаза.
— Не трудись, сынок… Всё… Слышь?..
Ушастый опустил Ивана на землю.
— Дожил… — сказал Иван и улыбнулся спекшимся ртом. Чуть приподнялся и произнес с выражением детского удивления: — А хор-р-ро-шая вышла у меня жизнь! — и откинулся, и перестал быть.
Ушастый стал копать могилу короткой шанцевой лопатой…
Над телом Ивана вырос рыжий холмик глинистой земли.
Ушастый — он сильно изменился за дни наступления, будто перескочил через возраст (если пощадит его война, он станет настоящим музыкантом, ибо наслушался небывалой музыки) — нашел фанерку и написал на ней что-то чернильным карандашом; воткнул в землю железную полосу и прикрепил проволокой фанерку.
Для памяти людей осталось: «Здесь лежит храбрый солдат Иван. Друг Рахманинова».
Две могилы в разных концах земли: Рахманинова на чужбине: высокий русский крест и надпись: «Сергей Рахманинов», в изножии цветы, и затянувшийся травой, ромашками холмик Ивановой могилы на сталинградской горестной земле; на фанерке еще можно разобрать его имя.
Тишина. И в нее упал удар колокола. Забили колокола. Незримые. Колокола неба, которое одно на всех жителей земли. Колокола победы над злом, искупления, прощения, примирения и не забвения, а вечной памяти.
Через несколько лет так оно и станет. Вот список рекрутов, назначенных болдинской экономией в 1833 году:
«Ефим Захаров — течет с ушей
Педьппев — рана в ноге
Капралов — желтью болен
Ананьев — палец левой ноги — крюком».
Кроме того, против каждого помечено «вор». Еще двое в списке были чисты от болезней и увечий, но один из них — Сягин — сбежал по дороге в Арзамас от отдатчика и скрылся в лесах.
Вот какие ратники украсили победоносное воинство русского царя. «Помещичьему» периоду жизни Пушкина мы обязаны не только суровыми крепостническими «Мыслями в дороге», но и горестно-упоительной «Историей села Горюхина» и незабвенным образом Ивана Петровича Белкина, подарившего нам пять бессмертных повестей. Как ни корежит гения — все во благо. (Прим. автора.)