Натан Щаранский - Не убоюсь зла
Здесь есть возможность читать онлайн «Натан Щаранский - Не убоюсь зла» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Русская классическая проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Не убоюсь зла
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Не убоюсь зла: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Не убоюсь зла»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Не убоюсь зла — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Не убоюсь зла», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
-- Вас ждет жена. Вы хотите увидеть ее? Это теперь зависит только от вас.
Я сразу же представил себе, как Авиталь где-то в Женеве или Пари-же вместе со своим братом слушает сообщение о моем аресте. Я вспом-нил последний разговор с Израилем, свое огорчение оттого, что не пого-ворил с ней -- Авиталь и Миша, узнав о статье в "Известиях", срочно вылетели в Европу спасать меня, -- и еще раз порадовался, что успел передать для нее письмо. Вспомнил -- и успокоился.
-- Требую записать мое заявление в протокол, -- сказал я Галкину.
-- Какое еще заявление?
-- Которое я сделал вначале.
-- Это не заявление, а клевета. Такого мы записывать не будем.
-- Тогда нам больше не о чем говорить.
Тут опять последовала длинная тирада, из которой я уловил лишь одно: ему меня очень жаль. Я так устал, что мечтал только о том, чтобы добраться до постели. Галкин наконец вызвал по телефону охрану -- от-вести меня в камеру. На прощание он повторил, что у меня будет время подумать, что чем скорее я пойму свое положение, тем лучше для меня, и что нам с ним еще предстоит много раз встречаться.
Снова длинные тесные коридоры и узкие крутые лестницы. Как вся-кого новоприбывшего, меня, прежде чем отправить в камеру, ведут в баню. Мне холодно, знобит, но самому регулировать воду невозможно -- нет крана. Я стучу надзирателю, которого по официальной термино-логии положено называть контролером, прошу сделать горячей... еще горячей... еще... Вода начинает обжигать тело, но озноб не проходит. "Может, я простудился?" -- думаю, и тут же возникает предательская мысль: "Хорошо бы заболеть недельки на две..." Предательская -- пото-му, что она выдает мой потаенный страх. Да, у меня уже нет сомнений: я боюсь. Мне хочется поскорее добраться до постели, чтобы остаться со своим малодушием наедине и побороть его за ночь, ведь завтра -так представляется мне -- будет очередной допрос, и к этому времени я дол-жен полностью взять себя в руки.
С матрацем, одеялом, подушкой, миской, кружкой и ложкой -- всем моим нынешним имуществом -- я вхожу в камеру. Она голая, узкая и холодная, и мне даже не хочется ее разглядывать. Я быстро ложусь под одеяло и натягиваю его на голову. Но надзиратель, открыв кормушку, тут же напоминает мне, что я не дома -- с головой укрываться нельзя, несмотря на то, что над тобой горит и будет гореть всю ночь яркая лам-почка. Приходится смириться и с холодом, и с таким ярким светом, что он проникает даже сквозь крепко смеженные веки. То, что глаза можно накрыть сложенным вчетверо носовым платком, а форточку захлоп-нуть, мне в тот момент даже не приходит в голову. Но засыпаю я неожи-данно быстро и сплю без снов до самого утра, когда мне впервые пред-стоит проснуться от крика: "Подъем!" -- и вспомнить, что я в тюрьме.
* * *
Впоследствии, проведя в Лефортово шестнадцать месяцев, доско-нально изучив и саму тюрьму, и царящий в ней распорядок, чувствуя себя там "как дома", я не раз вспоминал свои первые часы в заключе-нии, первый допрос после ареста и ломал голову: где же он проходил? Лефортовские коридоры и лестницы были вполне обычными, вовсе не такими длинными и узкими, какими тогда показались мне; в корпусе, где размещался следственный отдел, -- всего три этажа, а вовсе не семь-восемь; кабинеты, в которых я бывал с тех пор, были самых обычных размеров, и в том огромном, галкинском, мне больше не доводилось си-живать. Не встречал я больше и самого Галкина. Так что, если бы не его подпись под протоколом допроса от пятнадцатого марта семьдесят седь-мого года, где записано, что я "отказался отвечать по существу предъяв-ленного обвинения", можно было бы подумать, что все это мне присни-лось.
2. ЛЕФОРТОВО
Самое тяжкое в тюремном дне заключенного -- пробуждение, особенно в первые недели, когда ты еще весь в прошлой жизни, ког-да потаенная, противоречащая всякой логике надежда, что этот кош-марный сон вот-вот кончится, особенно сильна.
Пробуждение в первый день после ареста было для меня настоящей пыткой. Проснулся я от каких-то стуков в коридоре и выкриков надзи-рателя -- и сразу все вспомнил. Я попытался снова уснуть -- в наивной надежде на то, что когда вновь открою глаза -- увижу себя в привычной обстановке квартиры Слепаков. Шум, однако, усиливался. Наконец хлопнула дверца моей кормушки, и надзиратель скомандовал:
-- Подъем!
Я сел на нарах. Сердце болело. Голова была налита свинцовой тяже-стью, во всем теле -- слабость, как во время серьезной болезни. В каме-ре стоял ледяной холод: форточка была открыта. Я осмотрелся и увидел в углу унитаз. Что ж, довольно удобно -- не придется далеко ходить. (Я еще не знал тогда, что "удобная" жизнь в клозете растянется для меня на много лет.) Рядом с унитазом -- умывальник. Вдоль стен -- желез-ные нары. В центре камеры -деревянный столик и табуретка. На окне, помимо решетки, -- особые железные жалюзи -- "намордник", -- прак-тически полностью перекрывающие доступ дневного света. Яркая элек-трическая лампа под потолком горит круглые сутки. На стене -- свод правил поведения, прав и обязанностей заключенного.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Не убоюсь зла»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Не убоюсь зла» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Не убоюсь зла» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

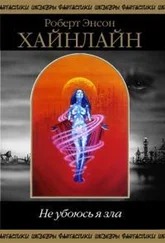




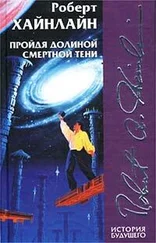
![Роберт Хайнлайн - Не убоюсь зла [litres]](/books/404754/robert-hajnlajn-ne-uboyus-zla-litres-thumb.webp)


