-- Теперь ознакомьтесь со статьей шестьдесят четвертой УК РСФСР, по которой вы обвиняетесь, -- сказал Галкин.
Во вторую книгу предусмотрительно вложена закладка на соответст-вующей странице. Хотя эту-то статью я за последние дни выучил бук-вально наизусть.
-- Итак, вы обвиняетесь... впрочем, пока еще подозреваетесь, но об-винение будет вам предъявлено, как и предусмотрено законом, в тече-ние десяти дней, в измене Родине в форме помощи капиталистическим государствам в проведении враждебной деятельности против СССР. Что вы можете сообщить по существу предъявленного вам обвинения?
-- Никаких преступлений я не совершал. Моя общественная дея-тельность как активиста еврейского эмиграционного движения и члена Хельсинкской группы была направлена исключительно на информиро-вание международной общественности и соответствующих советских организаций о грубых нарушениях советскими властями прав граждан, добивающихся выезда из СССР, и находилась в полном соответствии... -- я произносил все это почти автоматически, не задумываясь. В последние дни мне часто приходилось отвечать на вопросы о смысле, це-лях и характере моей деятельности -- правда, иностранных корреспон-дентов, интервьюировавших меня в ожидании скорой развязки. То были репетиции, сейчас -- премьера. Впрочем, меня довольно быстро и грубо прервали.
Галкин неожиданно сбросил личину добродушного дядюшки, загово-рил вдруг громко, резко, срываясь на крик.
-- Это вам не пресс-конференция! -- привстав, стукнул он кулаком по столу. -- Больше на них вам выступать не придется. Достаточно, по-клеветали! Пришло время держать ответ перед народом. Если передава-ли информацию, то так и говорите -- где, когда и кому. Вы, кажется, еще не уяснили себе своего положения. Прочитайте внимательно ... часть статьи.
Какую именно часть -- я не расслышал, он произнес незнакомое мне слово -- очевидно, какой-то специальный юридический термин. Я дога-дался, что он имеет в виду, но все же почему-то переспросил:
-- Какую часть статьи ?
Видимо, мой голос дрогнул, ибо Галкин зло рассмеялся. Быстрота, с которой он перешел от приветливых, доброжелательных улыбок к злоб-ному, поистине сатанинскому смеху, была просто поразительной.
-- Прочитайте часть о наказании. Вам грозит смертная казнь. Рас-стрел!
Впервые после моего ареста прозвучало это слово. В первый раз я ус-лышал его, и сердце мое заныло, сжалось; во рту пересохло. Казалось бы, я должен был ожидать этого. Но все последние дни, обсуждая веро-ятность ареста по шестьдесят четвертой статье, мы почему-то вообще не говорили о возможности "вышки" -- вероятно, каждый из нас понимал, что такой вариант существует, но подсознательно гнал от себя страш-ную мысль. В наших беседах и даже в моем последнем письме Авитали, которое я успел отдать Роберту Тоту, корреспонденту "Лос-Анджелес Тайме" и моему другу, за день до ареста, я говорил лишь о вероятности осуждения на десять лет. Не знаю, заметил ли мою реакцию Галкин, но продолжал он с явным воодушевлением:
-- Да, да, расстрел! И спасти себя можете лишь вы сами и только чи-стосердечным раскаянием. На ваших американских друзей можете больше не рассчитывать.
Галкин говорил еще долго, все так же агрессивно и напористо, но я практически перестал его слушать, убеждая себя: "Ты ведь был к этому готов. Ничего неожиданного не произошло". Я чувствовал легкую дрожь в руках и сжимал их между колен, чтобы Галкин не заметил этого.
А тот продолжал на самых высоких тонах:
-- Вас уговаривали, предупреждали, а вы продолжали свою преступ-ную деятельность! Но уж теперь ни Израиль, ни Америка вам не помо-гут! -- и долго еще выкрикивал что-то в том же духе.
Кричали на меня в КГБ в первый и, как выяснилось потом, в послед-ний раз.
То был, видимо, пресловутый "час истины" -- этим термином в КГБ называют первый допрос захваченного "преступника", когда ему пытаются продемонстрировать, как резко изменилось его положение, наде-ясь тем самым ошеломить человека и вырвать из него нужные слова: "Да, виноват, каюсь"; на этом фундаменте и будет строиться вся после-дующая обработка.
Но в чем бы ни была цель Галкина, на меня его крики произвели в конце концов благотворное, отрезвляющее действие -- так же, как раньше тирада Петренко о том, что он воевал за моего отца. Момент слабости прошел; я видел перед собой врага, который пытается оторвать меня от всего, что мне так дорого, и вновь обессмыслить мою жизнь.
Тут Галкин совершил свою последнюю ошибку -- упомянул Ната-шу:
Читать дальше

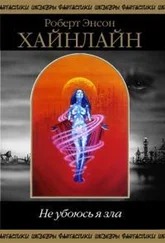




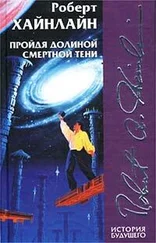
![Роберт Хайнлайн - Не убоюсь зла [litres]](/books/404754/robert-hajnlajn-ne-uboyus-zla-litres-thumb.webp)


