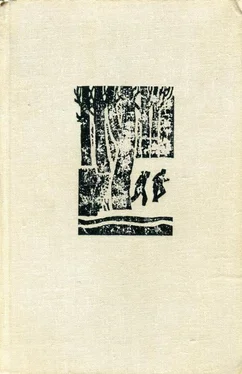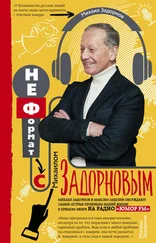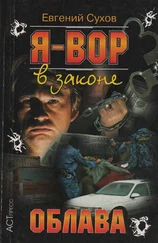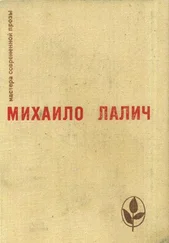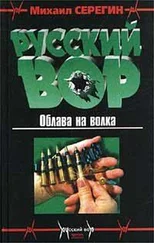Нету коки, нету яйки,
Нету грапа, нету аквы,
Нету оджи, нет домани,
Нонче ньенте, нонче майи…
Перековали орала на мечи; перетопили свинцовые кровли Билярды [45] Билярда — дворец в Цетинье.
на пули, перетопили и типографский шрифт, чтобы было чем защищаться. Но не стало и этого. Принялись за людей: заряжали ими пушки и выстреливали одного за другим в надвигавшуюся со всех сторон стену. Выстрелили Стево Очкариком, потом пошли партизаны Ловченского отряда, Дурмиторского, Комского и всех прочих. Пришел черед Байо, а кто-то сказал:
— Не может он, кишка тонка. Ему не с винтовкой воевать, а с книгой, о развитии черногорской нищеты писать да в личных делах коммунистов отмечать тех, кто без нужды рискует собой, подвергает себя опасности, когда нужно и не нужно, кто переходит открытые поляны либо женится на чужих женах и кто на все всегда отвечает: «Это нам легче легкого». Нельзя его посылать к этим «легче легкого», не вернется он оттуда.
Кто-то другой ему возразил:
— Некого больше посылать, не можем мы больше выбирать и кого-то беречь. И не вижу я причины, почему его надо беречь. Дед его торговал с Мальтой и Марселем, барышничал волами, продавал сумах, далматский блохомор и нажил на нашей нищете целое богатство. Пусть сейчас Байо расплачивается, раз не пожелал офранцузиться.
Сунули его в пушку и выстрелили прямо в ту стену. На стене никаких следов: ни дыры, ни царапины, а он лежит под стеной, расплющенный в лепешку. Лежит долго, без конца, холодно, мокро, словно в луже лежит. И не видно тому конца-края!
Он открыл глаза, нащупал целлофановый мешочек, — книга личных дел на месте и даже не намокла. «Надо бы ее сжечь, — подумал он, — чтобы не взяли, когда меня обнаружат. Впрочем, еще рано — можно не торопиться. Было бы рано, если бы я не боялся, что потом будет поздно. Подожду еще немного, счастье переменчиво, может, еще и мне улыбнется. Вот, стреляют! Это на той поляне, Вуле Маркетич и Слобо кричат — с Софры пришли меня искать. Дурак Видрич, что их отпустил, надо будет призвать его к ответственности за это, могли бы хоть они уйти… Тот, что кричит «вперед», жандарм, узнаю его по голосу. Где-то я слышал этот голос, не помню где. Вот опять: «Вперед, вперед!» — тот самый, что кричал сверху, над поляной, возводит стену и движется на нас, хочет раздавить. Ради меня жертвовали, а я этого не заслуживаю. Погибнут такие люди, а я тут лежу, как калека, как последний осел! О Байо, неужто ты не способен умереть в бою?..»
Он дополз до винтовки, крепко обнял ее, как обнял бы в ту минуту и змею, и, превозмогая боль, в гневе и отчаянии покатился вниз по обрыву. Перевернувшись несколько раз, он вдруг почувствовал, что боль утихла. Внутри все само собой встало на место — он оперся на колено и встал. Весь в снегу, мокрый, грязный, избитый, но здоровый. Может идти и не спотыкается — какое-то мгновенье ему казалось, что это он во сне видит себя здоровяком, жилистым, выносливым, каким был только в мечтах. Он поднял шапку, надел шарф, добрался до места, где поскользнулся, и повернул в низину. Крики и выстрелы у Поман-воды все еще продолжались. Словно духи воюют: кругом стрельба, а никого не видно. Он поднял винтовку и хотел выстрелить, но не решился, не имея понятия, в какую сторону стрелять, да и побоялся принести больше вреда, чем пользы. Вздрагивая и озираясь по сторонам, он сознавал, что не подготовился как следует к этому последнему экзамену. В десяти метрах под ним появился человек с обвислыми усами, он отделился от дерева и перебежал к другому — Байо выстрелил, промахнулся и увидел, как тот убегает и как за ним бежит другой. Байо взял на мушку его ногу. Некогда целиться, да он и не видит ничего другого, держит мушку на ноге, как единственную связь с миром, наконец он выстрелил, тот споткнулся и упал, точно сброшенная с плеча сермяга. Казалось, что он так и останется лежать, но пока Байо выбрасывал гильзу, раненый исчез, будто его никогда и не было.
— Вуле, — крикнул Байо и почувствовал, как слабо и неуместно звучит его голос.
— Слобо, — крикнул он снова глухо, точно во сне.
Байо хотелось назвать себя, но он удержался. «Все равно не услышат, — подумал он, — да и не поверят, если даже услышат». Ему показалось, что бой удаляется, как нарочно, удаляется от него, выстрелы становятся все реже. Сквозь редкую стрельбу он слышит, как жандарм, сейчас уже ниже поляны, жалким и обиженным голосом бранится:
— Сволочи, курвы, все вы тайные партизаны… Бросили меня раненого, мать вашу перемать…
Читать дальше