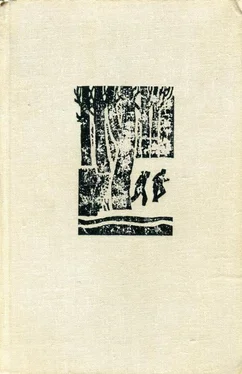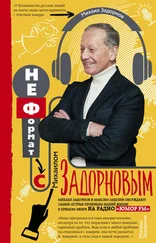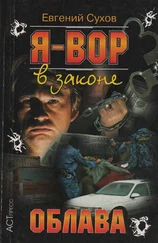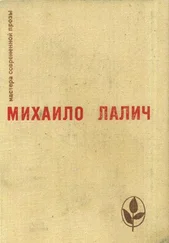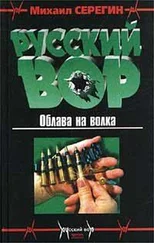В небе брезжит рассвет, гаснут звезды. Долина под Рогоджей как-то особенно притаилась, и по одному этому чувствуется, что готовится какое-то вероломство. Не слышно больше собачьего лая, лишь колышется пелена тумана, словно под ним ворочается огромное водяное чудовище. Во мгле, где-то на дне долины, около Дервишева ночевья, прозвучало два выстрела — им ответило десять, двадцать винтовок, затрещали пулеметы, ухнули гранаты. «Хитро придумали, — подумал Элмаз Шаман, — разделились на два отряда и пуляют через головы друг друга, как на маневрах, — точно и в самом деле воюют. Досадно, что они все еще принимают нас за детей и рассчитывают после всего, что было, нас обмануть…»
Быстро оборвавшийся, будто отрезанный ножом крик, долетел до его ушей. Старик вздрогнул: он почувствовал, как боль и страх рвутся из этого крика, даже сейчас, когда его нет. «Это уже не игра, — подумал он, — кого-то ранило. Может, случайно, ненароком, или по неосмотрительности — где винтовка, там и шайтан, а он не может не напакостить. Что бы там ни было, но ранило наверняка — знаю я, что такое боль, знаю ее голос».
Перестрелка утихла, со всех сторон слеталось воронье.
— Вот они поднимаются на Орван, — сказал Ибро, внук Элмаза. — Видишь?
— Вижу, что-то чернеет. Много их?
— Нет. Шесть, семь. Вон еще два, больше нет. Наверно, коммунисты, раз их так мало. Несчастные! Куда они против такой силы пошли?
— Ты себя лучше береги и жалей! Нет здесь коммунистов, это придумано для отвода глаз.
— А почему они идут на Орван, а не к нам, если это не коммунисты?
— Чтобы забраться повыше и посмотреть, где мы. Пусть никто не высовывается из кустов.
Взошло солнце, красное и круглое, — никто его и не заметил, все смотрели в долину. Бой утихал, слышались только редкие, беспорядочные выстрелы. Из тумана, точно из гроба, поднялся хриплый крик и замер в вороньем карканье. Шлепнул одиночный выстрел, точно по влажной гнили почерневшего мяса. Ариф Блачанац на Повии подумал: «Добили раненого!» Он ничего не сказал другим, не следовало их преждевременно радовать, но про себя решил: «Верно, итальянец Ахилл в письме не лгал. Если это так, то облава в самом деле на коммунистов, и тогда еще можно не терять надежды. Коммунисты — крепкие ребята, пока их одолеют, сами вымотаются и нас оставят до следующего раза. А до того времени, смотришь, найдется какой-нибудь выход…»
В тишине с Софры прозвучал зов — два голоса, один хриплый и глухой, другой ясный и пронзительный, окликали кого-то по имени. Чазим Чорович, храпевший до сих пор на поваленном стволе дерева, вздрогнул, поднял тяжелую с похмелья голову и поправил на ней свою фуражку. Руки у него замерзли. То, что он увидел, ему не понравилось. Удивившись солнцу, снегу и вольному простору, он подумал: откуда все это? И с трудом вспомнил, как здесь очутился.
— Что-то кричат, — сказал он. — Зовут на переговоры.
— Почему бы им нас звать, если они даже не знают, что мы здесь?
— Кричат Сейдо, такого имени у них нет. Нужно совместно действовать, присоединиться к облаве и знать, где кто находится. Я сейчас отзовусь. — И хотел было уже крикнуть.
— Ничего не понимаешь, так уж лучше молчи!
— Это ты мне? Как ты смеешь!
— Да, да, тебе! Они кричат не Сейдо, а Сенё или Селё. Это кто-нибудь из ихних, либо условный сигнал для дозорных. А если ты хочешь быть с ними заодно, ступай к ним и там отзывайся за милую душу, но не здесь! Я не хочу, чтобы ты открывал наши позиции, не хочу терять людей. Не верю я им нисколечко и не желаю иметь с ними ничего общего — не надо мне ни облавы, ни содружества. И тебе я тоже не верю! Если придется туго, ты со своей фуражкой в кусты, как это было в Зуквице, а я защищаю семью, детей защищаю! Чтобы не остались от детей одни косточки в пепле, мелкие, желтые, обгоревшие, как ягнячьи.
Уставились друг на друга, впились глазами, не могут оторвать взгляда. Скрипят зубами, губы и щеки дергаются — молча осыпают друг друга отборной бранью, состязаясь в силе ненависти. Кажется им, будто они начали враждовать задолго до того, как встретились и познакомились: исконная, унаследованная от многих поколений предков ненависть поставила их друг против друга и сделала так, чтобы всем с первого взгляда их разность была видна, поэтому один огромный русый, вялый и неповоротливый, другой — маленький, смуглый и юркий. Чазим смотрит на свой сжатый кулак и думает: «Хвачу-ка я его этой кувалдой и вобью в землю по шею!» Ариф непроизвольно поднимает штык итальянского карабина: «Была не была, вспорю брюхо этому пьяному медведю!»
Читать дальше