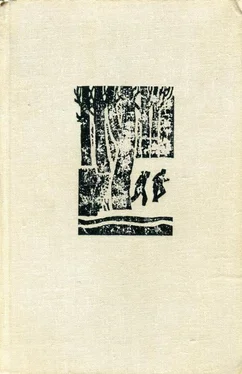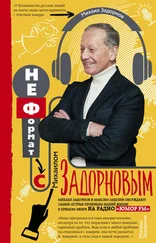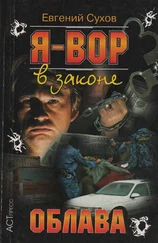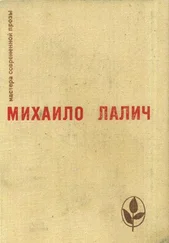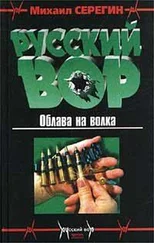— Куда ты идешь? — спросил его Качак.
— Не спрашивай, знай себе шагай! Наверняка меня кто-нибудь узнал, надо уходить как можно скорей.
— Неужто на Рогоджу?
— А куда еще? Видишь же, что к Софре не пройти!
— А как с чулафами?
— Легче легкого, они не такие ядовитые, как наши змеи.
Про себя Гавро надеялся, что мусульман удастся обойти. Их дозоры, что расставлены на Рогодже скорее для наблюдения, чем для защиты, едва услыхав стрельбу, вероятно, тотчас отступили на Рачву или в села по ту сторону горы. А если каким-то чудом и остались, то, видно, попрятались со страху, и он обязательно отыщет какую-нибудь лазейку — в этом ему всегда везло. В худшем случае, если наткнутся прямо на них, у него там есть закадычный друг Таир Дусич, капабанда из Опуча. Таир пропустил бы его и через собственный дом, пропустит его с товарищами и через глухие горы. А если не окажется Дусича или другого какого знакомого, то и прочие мусульмане сейчас изменились, это уже не бессловесная скотина, какими они были во время восстания; проснулись или, по крайней мере, начинают просыпаться, рождественская резня научила их различать людей и партии, впрочем, и до резни, еще осенью на сходках, они постановили не чинить препятствий коммунистам. Тупоголовых, вроде Чазима Чоровича, осталось мало, и такие, как он, неохотно лезут на Рогоджу, чтобы стоять в снегу на страже и подвергать себя опасности, — маловероятно, что налетишь именно на них.
— Вот и не получается «легче легкого», — сказал Качак, запыхавшись, — видишь, совсем нелегко!
— А разве будет легче, если сказать: «тяжелей тяжелого»?
— Я не о том, мы должны быть готовы к самому худшему.
— Винтовки заряжены, патронов хватает, чего тут еще готовить?
— Раз мы улизнули с той полянки, — сказал Момо, — дальше пойдет легче.
Им не приходит в голову идти след в след — нет времени, да и сейчас это уже ни к чему. Идут то друг за другом, то рядом, временами кто-то вырывается вперед — главное, подальше уйти и поскорее добраться туда, где можно проскочить. Назад не оглядываются, чтобы не вносить лишней тревоги и не обнаруживать собственного страха. Таким образом, никто не заметил, как отстал Байо.
Да он и сам не заметил, все произошло быстро и непонятно, в одно мгновение. Ему показалось, будто кто-то подстерег его, спрятавшись за дерево, схватил за ногу и потащил в пропасть. Байо попытался вырваться, ударить противника ногой, опереться на винтовку, но все было тщетно. Ноги разъехались в стороны, словно убегая одна от другой, и острая боль пронзила его от сердца до горла. На несколько мгновений он почти потерял сознание, как рыба, хватал воздух, потом сквозь холодную мокрую сеть, наброшенную ему на голову, стал различать ветки, тени деревьев и свет. Того, кто опутал его этой сетью, не видно, но Байо чувствует, как он насмехается над ним и его едва слышный шепот летит от дерева к дереву.
Снег попал ему за ворот и начал таять — под спиной образовалась целая лужа; снег попал и в рукавицу и в рукав, у локтя тоже стало мокро, влага холодила, ползла все дальше, пробирала насквозь. Байо посмотрел на валявшуюся в снегу шапку, и она напомнила ему скорбную шапку убитого; посмотрел на винтовку, которая, точно старая никчемная деревяшка, высовывалась из-под снега, а чуть подальше увидел шарф — последнее воспоминание о проведенных в Белграде днях, — зацепившись за ветку, он болтался на ветру, призывая преследователей. Все точно сговорилось против него, все его покидает, предает и стращает. Похоже, и эти неодушевленные предметы каются, что верно ему служили, отворачиваются от него и один за другим перебегают на сторону врагов. И ему пришла в голову мысль, что предметы эти откуда-то пронюхали, что ему уготовано, и на им лишь известном языке сообщили друг другу, что его ждет, и потому так стараются уйти от него подальше.
Байо попытался было встать и с ужасом понял, что не может. Внутри что-то разъехалось, соскочила какая-то кость в пояснице, стала боком, подкосила его красными молниями боли и бросила на живот. Собрав все силы, он сделал вторичную попытку.
Он не почувствовал, как падает. Ему показалось, будто лицо его погрузилось в прохладу росистой травы, только нельзя поднять голову — над затылком свистят пули. Огромная праща на колесах катит и выблевывает ядро за ядром в далекую черную стену. Вот она пробита в одном месте, пробита в другом, в третьем, но слишком рано заключили, что с ней покончено, рано принялись пировать и веселиться, возгордились, зазнались и мигом разбазарили и боеприпасы и радость. Черная стена сама по себе заделала пробоины, выросла и снова стала надвигаться. Бьют по ней без конца, сдерживают ее и вдруг видят, что больше нечем стрелять. Нету, кричат они, а стена, точно эхо, отвечает: нету, нету, откуда чему быть! Нет Европы, нет свободы, нет коммунизма, только сон… Стена приблизилась, черная, громадная, и вот уже запела насмешливыми итальянскими голосами:
Читать дальше