Окоп, в котором стоят молодые солдаты, чуть выше пояса. Они ложатся грудью на его кромку и прижимают к плечам приклады автоматов. Учатся стрелять. Через несколько часов они уходят, оставляя в талом снегу рыжие следы. Снег зернистый, осевший, но его еще много, и лишь вдоль окопа тянется лента черной оттаявшей земли. Завтра сюда придут другие…
Через некоторое время я снова оказываюсь здесь. Вокруг безлюдно. Солдаты научились стрелять. Прохожу мимо окопа. Сапоги вязнут в жирной густой земле. Она еще мертва, но вдоль кромки неглубокого окопа протянулась узкая полоска вчера родившейся травки.
СПЕВКА
Вспомнилось мне давнее, забавное… Тогда я получил квартиру. Однокомнатную, отдельную, с кухней и ванной — первую свою жилплощадь в жизни. Прибегаю как-то в самом начале своего счастья с работы. С ходу — в ванную. Булькает водичка теплая, ласковая. Блаженствую, погрузившись в нее до ушей. И душа поет.
— Легко на сердце от песни веселой… — тяну, как могу.
— Она скучать не дает никогда, — вторит мне профессиональное сопрано из-за кафельной стенки.
«Почудилось», — думаю я и завожу другое:
— Не слышны в саду даже шорохи-и-и…
— Все здесь замерло до утра-а-а… — подпевает прекрасный голос. Журчит за стеной вода. Впрочем, это было очень давно. Может быть, я что-то и перепутал.
ОДИН — НОЛЬ
В вагоне метро в этот вечерний час немноголюдно. Напротив меня склонилась над зарубежной газетой миловидная женщина. Рядом — двое молодых людей. Один из них — непоседливый, в очках с модной оправой, суетясь, перешептываясь с другом, явно ищет повода, чтобы заговорить с женщиной.
— Девушка держит в руках «Таймс», — наконец говорит он со значением. — И делает вид, что знает английский…
Женщина, едва взглянув на него из-за газеты, снисходительно улыбнулась:
— Молодой человек носит очки и делает вид, что он дальнозоркий…
Еще не спят фашистские ракетчики,
А в блиндаже, на нашей стороне,
Уже сдают армейские разведчики
Партийные билеты старшине.
Они уйдут туда, где ветер крутится
Среди кустов и выжженной травы,
Где даже пуля, может быть, заблудится
И пролетит левее головы…
И. Ринк
Раннее майское утро. Еще свежо, но тугие и острые лезвия солнечных лучей уже прорезали сизую дымку, в которой золотятся по горизонту купола московских старых соборов. Еще пустынно на улицах, еще редки машины, но уже остро ощутима необыденность только что родившегося дня. Печать ее на всем. И на бликах, что играют в звеньях рано распахнутых окон, и на улыбке дворника, резво размахивающего метлой на асфальтовом пятачке, возле арки высотного дома, и в трубном сигнале машины, круто развернувшейся рядом.
Из машины неторопливо выбрался и, хлопнув дверцей, на минуту замер, словно увидев что-то неожиданное, высокий пожилой генерал. Он медленно направился к подъезду и, остановившись возле дворника, протянул ему руку:
— С праздником, батя!
Дворник вытянулся перед генералом во фронт, пристукнул озорно каблуками, и звякнули серебром на его груди медали.
Из подъезда спешили наперегонки к генералу двое военных. Все трое обнялись и так, не разнимая рук, двинулись к дому.
А через час уже Москвы не узнать. Майская Москва зеленела, шелестела первой листвой. И не только первые нежные листья тополей и лип отливали изумрудной свежестью. Зеленели повсюду, выделяясь на голубом, синем, алом, мундиры военных. И на все столичные вокзалы прибывали и прибывали зеленые составы, на летные поля всех аэропортов приземлялись сияющие огромные лайнеры, и выходили из них военные и штатские и обнажали головы под теплым московским солнцем, жарко и празднично золотившим их боевые ордена и медали.
Если взглянуть на сквер у Большого театра с высоты — ну, скажем, с крыши гостиницы «Москва» или «Метрополь», — он покажется громадным букетом, гигантским кустом белых хризантем. Там внизу, в сквере, не осталось ни одной веточки сирени или яблони, где бы не был укреплен белый листок бумаги. Эти белые флажки трепещут на легком ветру, и розовым пламенем отсвечивают в них знамена. Что же это за письмена колышутся на ветвях? Кому адресованы эти послания?
Читать дальше
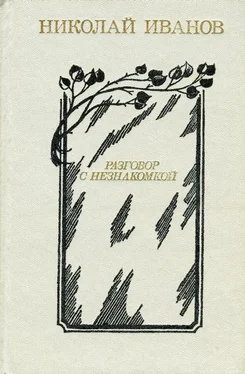






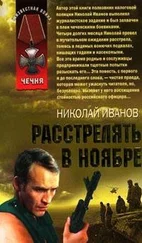
![Николай Иванов - Элвуд Роклан. Возвращение домой [СИ]](/books/415105/nikolaj-ivanov-elvud-roklan-vozvrachenie-domoj-si-thumb.webp)





