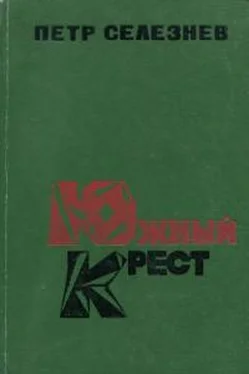Но у русских свои расчеты. Им невозможно отказать ни в гибкости ума, ни в храбрости. О храбрости можно бы вообще не говорить. Это даже не храбрость, а фанатизм. В данном случае, он думал, невысокий уровень культуры русского солдата дает ему определенное преимущество. И было что-то еще, чему генерал фон Моргенштерн не знал названия.
По логике вещей, по ходу боя можно было предположить наверняка, что триста тринадцатый русский полк уже не существует, от него ничего не осталось. Как бы ни упрямился русский командир, обязательно оголит соседний участок. Будет понимать пагубность своих действий и все-таки оголит. Иначе оборону прорвут на участке триста тринадцатого. Конечно же, полк держится только потому, что ему отдали все… Русский командир вынужден сделать это. Он, Моргенштерн, заставил его!.. Дальше все пойдет, как бывало раньше. В Польше, в Бельгии, во Франции. Да и в России…
Мысль генерала осеклась. Потому что в России было не так. Совсем не так. Ему вдруг захотелось увидеть русского командира, который в двадцати километрах от него, наверное в таком же вот бункере, направляет игру.
Генерал вдруг решил: оттого, увидит иль не увидит русского, будет зависеть успех или неуспех.
Чувствовал — наступила минута, тот самый момент, который решит исход боя. Русский командир, если предположить, что он настолько умен и многоопытен, что до сих пор не пошел на поводу, сейчас должен ошибиться. Генерал фон Моргенштерн сделает последний шаг, русский вынужден будет отворить ворота.
С другого конца провода долетел твердый, раздраженный голос. Напряженно и гулко толкнулась мембрана:
— Господин генерал, я позволю себе настоятельно требовать прекратить атаки! Нет никаких сомнений — русские обороняются на этом участке силами всей дивизии!
Моргенштерн улыбнулся. Сдержанно, едва заметно.
У него не осталось сомнений. Но береженого бережет сам бог. Кажется, так говорят русские. Подался вперед, навалился локтями на край стола.
— Немедленно атаковать! — сделал паузу, скрипуче покашлял: — Полуротой и тремя танками. — Он положил трубку. Откинулся на спинку походного стула, лениво пожевал: — Я вижу русского командира… Смелый и талантливый человек. Но я разобью его.
Генерал фон Моргенштерн говорил раздельно и четко. И только человек неискушенный, незнакомый со штабными нюансами мог подумать, что командир дивизии говорит для себя… Он говорил для тех, кто его слышал. Потому что успех, в котором генерал фон Моргенштерн сейчас не сомневался, нуждался еще в достойном обрамлении. Это обрамление — что и как сказать об успехе — иной раз стоило дороже самого успеха. Генерал фон Моргенштерн произнес громкие слова отнюдь не для истории. Но для командующего армией. Завтра до штаба дойдет каждое слово, каждый жест. И все будет учтено…
Он приказал подать обед и, чувствуя гордость от замешательства штабных офицеров, улыбнулся. Сдержанно и высокомерно. Мысленно увидел родной Франкфурт: ратуша в старой части города, собор святого Павла и дом, в котором родился Гете… Кайзерштрассе и Цель. Магазины, отели, кафе…
Через неделю Шарлотта узнает обо всем. А случится все это через двадцать минут…
Ему вдруг опять захотелось увидеть русского командира. Но если час назад это желание возникло потому, что сомневался, то сейчас им руководило только любопытство. И пожалуй, даже великодушие. И он увидел его, достойного боевого командира. Но растерянного и подавленного. Тот сидит, безвольно бросив руки, перед ним на столе револьвер.
Все будет именно так. Через двадцать минут. Нет, через пятнадцать. А сейчас, при поддержке трех танков, в атаку идет полурота…
Генерал фон Моргенштерн привычно пожевал бесцветными губами, усмехнулся: полурота…
Лейтенант Веригин перебинтовал простреленную ногу и теперь ждал…
Давай. Он — готов.
У него была винтовка и противотанковая граната. Не мог вспомнить, где, когда обронил автомат. Потому что потерял много крови. Сознание работало замедленно, время растянулось в долгий извилистый пунктир, в котором черточки вдруг оборачивались живыми немцами. Лейтенант Веригин начинал стрелять. Черный пунктир обрывался: стрелять было не в кого. Это было то самое время, когда он отдыхал. Держался сознанием, что сейчас происходит именно то, для чего жил, к чему готовился.
Он всегда хотел быть военным. Потому что военным был его отец, которого не помнил и которого видел только на фотографиях. Над ними часто плакала мать. И еще потому, что в их большом коммунальном доме все взрослые воевали в гражданскую и, когда вечером собирались на скамейке, говорили только о войне. Они чаще говорили о победах. Наверное, потому, что о победах говорить приятней. О поражениях рассказывал Иван Жоголев. У него было два ордена и только одна рука. Его слушали, просили пересказать… И он повторял. О начдиве Думенко, об Азине, о кровавых сабельных рубках. Он рассказывал о рукопашных, после которых люди послабее сходили с ума…
Читать дальше