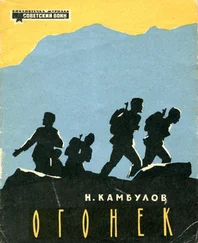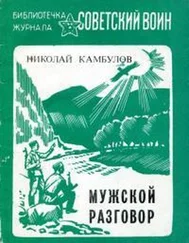Дверь подвала загремела, распахнулась.
— Приказайт выходит всем, аллес!
Люди поднялись, и она только сейчас увидела, что в подвале большинство подростков и детей.
— Быстро, выходайт!
Дети прижались к взрослым. Какой-то старик, очень древний, с большой продымленной бородой, загасил дымящийся в руке окурок, хрипловато вскрикнул:
— Граждане, вы тут погодите, я с ними погутарю. — Он снял ситцевую рубашку, и все увидели на нем матросскую тельняшку, новенькую и свежую. Старик постучал себя по груди: — Господи, я же старый матрос, мне ли поганым кланяться в ноги! — Он поплевал на морщинистые и желтые ладони, похожие на огромные высохшие листья лопуха, и направился к выходу.
— Я с вами! — вырвалось из груди у Люси. Старик остановился, слегка повернул голову. Люся была ему по локоть, на какое-то мгновение она почувствовала себя маленькой-маленькой.
— Останься, — сказал старик, — не твое это дело, Золушка.
И он, по-стариковски ступая, согнутый и тяжелый, вышел из подвала. Люди притихли. Сквозь открытую дверь Люся видела несколько пар ног. Она не успела заметить, в чем был обут старик — в сапоги или ботинки, и с минуту пыталась отыскать, определить, где ноги старика. Наконец ей удалось это сделать: она без сомнения решила — вот они, эти огромные сапоги, и есть ноги старика. Они виделись Люсе тяжелыми слитками металла. Вокруг них нервно подпрыгивали, метались маленькие начищенные сапожки: они то приближались к дедовским ногам, то отскакивали прочь, то снова приближались и в ту же минуту быстро откатывались на два-три метра, поднимались на носки, затем опускались на каблуки, дергались, будто попав под электрический ток. А ноги деда были неподвижны, и Люсе казалось, что они накрепко приклеились к тротуару и никто сейчас — ни сам старый, моряк, ни танцующие вокруг деда немцы — не в состоянии сдвинуть их с места, оторвать от земли.
Голоса повышались, крепчали и наконец стали разборчивее.
— Ви есть глафный зачинчик? Гитлер приказ читаль? Сволочь! — доносилось в подвал.
— Не пойдем!
— Что сказаль?
— Не пойдем, говорю, рыть окопы.
— Ти не желаль помогайт дейч армия?
— Все не пойдем.
— Я стреляйт буду… Сейчас стреляйт…
Раздался выстрел. Люся вздрогнула, закрыла глаза, но тут же открыла их. Дедовские ноги по-прежнему стояли на месте, застыли в неподвижности и немецкие сапоги, ожидая что-то.
И это «что-то» Люся вскоре увидела — к большим сапогам старого матроса медленно опустились руки. Они искали, обо что бы опереться, шарили вокруг… Попался небольшой камень. Одна из желтых от долгой жизни кистей рук начала сжиматься в кулак, но пальцы дрожали, и серый ребристый камень никак не поддавался, он выскальзывал, а рука вновь и вновь тянулась к нему, и наконец камень оказался зажатым в ладони, и Люся увидела, как рука быстро оторвалась от земли, и грудной голос деда ворвался в подвал:
— Звери! Мой Севастополь!.. Ура-а-а!..
Голос оборвался раньше, чем Люся услышала выстрел. Она выскочила из подвала. Дед лежал вниз лицом. Он еще был жив, его огромные руки тянулись к ногам маленького рыжего лейтенанта, стоявшего с пистолетом в руках, тянулись, чтобы схватить большеголового урода со странным, наполовину белым носом. И эти громадные, с толстыми пальцами руки, видимо, дотянулись бы до цели, но лейтенант выстрелил, выстрелил с тупой злостью, взвизгивая и крича на своем, непонятном Люсе, языке. Дед сгорбился, пытаясь опереться на локти. Лейтенант снова выстрелил. Люся напружинилась, неудержимая сила гнева бросила ее на офицера. Она зубами вцепилась в его руку, пистолет шлепнулся на асфальт.
Фон Штейц поднял оружие и помог Лемке освободиться от показавшейся ему дикой девчонки. Он скрутил ей руки назад и держал так до тех пор, пока лейтенант не успокоился. Люсю окружили солдаты. Фон Штейц подошел к Лемке, осмотрел укушенную руку, сказал Марте:
— Посмотри, какой след от зубов. Эта дикарка здорово кусается.
Марта заинтересовалась раной. Но Лемке отдернул руку, сунул ее в карман френча и направился к Люсе. Протиснувшись сквозь кольцо солдат, он вдруг крикнул:
— Она! — Лемке узнал Люсю.
— Кто? — спросил фон Штейц, стоя рядом с Мартой. Лемке хотел было рассказать, что это та самая, которая в Ялте откусила ему кончик носа, но тут же спохватился: «Еще поднимут на смех» — и сказал совершенно другое:
— Моя ялтинская любовница.
— Да ты, Лемке, молодец, — сказал фон Штейц, рассматривая Люсю. — Она недурна, — бросил он подошедшей Марте.
Читать дальше