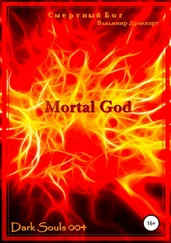— Эй! — крикнул он, высунувшись побольше из люка. — Ты откуда такой взялся?
Автоматчик, не отрывая рук от скобы и не меняя позы, не спеша поднял голову. У него был серый обветренный рот и слезящиеся от ветра, немигающие голубые глаза. В них не было ни веселости, ни зависти, ни уважения. Солдат смотрел на Бориса серьезно и безразлично.
— Мы из Удмуртии, — сказал он.
Андриевский не расслышал. Он чуть отодвинул рукой шлемофон от уха и крикнул:
— Откуда, говоришь?
— Из Удмуртии, — повторил солдат. Он тут же быстро отвернулся, посмотрел, не приблизилась ли гусеница к его ноге, и снова поднял голову.
— Удмуртия? — сказал Андриевский. — Знаем… В Ижевске мотоциклы делают…
Он плюхнулся на сиденье и захлопнул люк.
В машине было чисто, уютно. Тихо и ровно гудел мотор. Внизу Ткаченко снял руки с рычагов управления, левую положил отдыхать на колено, а правой взял прутик, засунул его за шиворот и чесал себе спину. Наверно, занемела. Витька Карасев, прижавшись плечом к боковому упору «люльки», разговаривал о чем-то на пальцах с Султановым.
Андриевский сначала хотел разобраться, про что у них разговор, потом передумал и, откинувшись на сиденье, начал смотреть на экран перископа.
Через толстый триплекс в зеркале отражалась все такая же скучная лесная дорога, обнаженные деревья, серое небо.
«Старик, — подумал Борис про автоматчика. — Его, конечно, скоро убьют. Стариков быстро убивают. Отца сразу убили. Папа. Папочка, мой родной. Зачем тебя убили! Как я тебя люблю! Любил! Неужели его нет? Был человек, и нет. Какой он был хороший! Ему казалось, что я у него лучше всех. Он всегда всем любил рассказывать, какой я был маленький. Обязательно рассказывал про крышу. Как-то я увидел, что маляры красят крышу, и сказал ему, что они очень много денег за это получают, гораздо больше, чем художники. Он мне объяснил, что художники получают больше, чем маляры. А я тогда удивился: «Но ведь у них работа опаснее!» Как он любил об этом рассказывать! За что же его? Папочка, мой дорогой! Не буду об этом думать. Буду думать лучше о Таньке. Вот бы сейчас ее сюда. Я бы посадил ее на колени… Или еще лучше — лечь в кровать… Совсем голым… У нее почему-то очень прохладная кожа… Даже в жару… И гладить ее чуть-чуть кончиками пальцев… Об этом тоже нельзя думать… Ни о чем нельзя думать. Хорошо бы этого старика убили не на моей машине. Я его на первой же остановке посажу на другой танк…»
Письмо Тане от 5 марта 1943 года
Дорогая Таня! Пишу еще из Челябинска, но первый раз за два года пишу в спокойной и тихой обстановке. Сижу в своем танке на мягком креслице, под тетрадь положил досочку, на которой заряжают пулеметные диски. Извини, что пять дней не писал тебе писем. Принимал машину, ездил на тактику, на стрельбы, на обкатку, устранял дефекты и т. д. Не спал трое суток. Сейчас ожидаю погрузки на платформу. Вот и Челябинск позади! Скоро начнется новая жизнь. Какая она? Скоро увидим! Оформился я очень быстро. Наши ребята еще только начали заниматься, а я в маршевой роте. Наступил трудный момент в моей жизни: мне необходимо быть хорошим, волевым, требовательным командиром (последнее провести в жизнь с моим экипажем очень трудно), а также другом и учителем. Бывают в жизни злые шутки! Экипаж попался хороший. Башенный стрелок оказался здоровый пройдоха: где-то спер брезент, лампочки, предохранители и т. д. Короче: вполне подходящий человек. Водитель побил своими рассказами рекорд. Человек три раза женился и все три раза женушек бросал. Сейчас живет с тремя девушками, да старых подружек около пяти штук. Со смеху подохнуть можно, как начнет рассказывать. Сегодня ходил собирать со своих подружек подарки на память (все они работают в магазинах, на винных заводах и т. д.). Рассказывал он свои похождения, и стало мне и смешно и грустно. Уж очень легкомысленный народ стали эти девушки и дамы. Ну довольно об этой дряни говорить. Что-то письмо никак не пишется. Ты, Танечка, не обижайся, что я начал про этих девушек и дам. Только настроение испортил. Ведь ты же девушка. Хватит. Кончу. Много хотел написать, но не буду. Целую, твой Борис.
Письмо так и доехало в танке до Саратова. Машину у меня отобрали гвардейцы, для которых, оказывается, все предоставляется в первую очередь. Живут гвардейцы! Теперь поеду за машиной обратно. В Чкалове мы с Кисулей (Эриком) хорошо потрепались, вспомнили тебя. Мы даже договорились устроить после войны грандиозный вечер, на котором будут присутствовать всего три человека: ты, он и я. Кисуля очень много рассказывал о тебе. Между прочим, нашел, что ты стала хорошенькая, чего раньше он при всем моем старании никогда не говорил. Пиши теперь мне на Челябинск. И почаще. Ладно?
Читать дальше
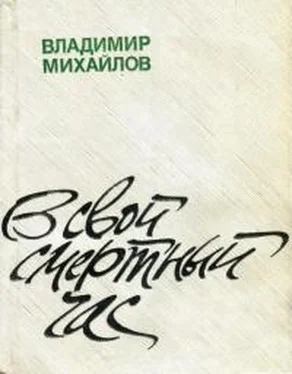







![Владимир Упоров - Смертный Бог [СИ]](/books/411019/vladimir-uporov-smertnyj-bog-si-thumb.webp)