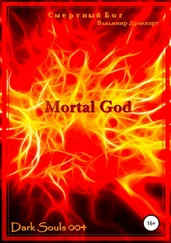— Я эту бумажку до сих пор наизусть помню, — говорит Мария Васильевна. — «Справка дана такому-то в том, что он по приезде в город Москву должен немедленно явиться в местные органы НКВД. Настоящая справка не является видом на жительство…»
— Это в первом месте, еще в Германии, мне такую справку дали. А потом в других проверочных лагерях велели сразу явиться в Можайск.
— Он как приехал домой, так сразу в Можайск собрался ехать. Но я понимала — не надо туда ехать. Прошу его: «Пойдем в НКВД. У тебя справка». А он твердит и твердит: «Велели в Можайск. Я — пленный. Я — пленный. Я же, понимаешь, — пленный…» На другой день умолила я его пойти в НКВД. Вместе пошли. Я решила тогда ни при каких условиях больше с ним не расставаться. Что будет, то будет. И, представьте, разрешили ему остаться в Москве.
Разговор затухает.
Из-за стен, на которые жалуются хозяева квартиры, не слышно ни звука, ни шороха.
В комнате так тихо, что даже воздух не пошевельнется. Мария Васильевна сидит за столом неподвижно, руки ее покойно лежат на скатерти, лицо задумчивое, сосредоточенное. Лицо Ивана Борисовича, как всегда, ясно, румяно, радушно…
— Мы с сыном часто на Москва-реку ходили, — говорит он. — На санках кататься. Ему тогда лет шесть было, но катался он…
— Ах, перестань, дружок! — восклицает Мария Васильевна. — Ты об этом уже рассказывал!
Иван Борисович послушно замолкает. Добродушно улыбается и, взяв в руку бутылку коньяку, говорит:
— Давайте еще по одной выпьем. За все хорошее…
14 МАРТА 1945 ГОДА
Полевой аэродром
Когда Андриевский и Ларкин вернулись из концлагеря на высоту, туда уже прибыл вызванный ими бронетранспортер с двенадцатью автоматчиками, которые строили в этот момент пленных в одну колонну, чтобы конвоировать их в тыл. Разбитая гусеница была отремонтирована, и рота готова была двинуться дальше, но Ларкин начал спорить с младшим лейтенантом, приехавшим на бронетранспортере, требуя себе десятерых автоматчиков в качестве десанта. Младший лейтенант божился, что не имеет права дать ни одного, но соглашался выделить пятерых. В конце концов Ларкин захватил семь десантников, и рота двинулась дальше по той же лесной дороге.
«Тридцатьчетверки» шли в прежнем порядке: впереди — Борис, замыкал — Ларкин.
Теперь танкисты чувствовали себя увереннее: на броне сидели десантники, они вовремя могли предупредить об опасности. Все-таки Андриевский то и дело выглядывал из приоткрытого люка. При этом он каждый раз мельком видел две скрюченные фигуры с автоматами на коленях, которые сидели за башней.
Справа расположился парнишка в сдвинутой набекрень квадратной ушанке, шинель у него была форсисто пригнана по фигуре, короткие полы подвернуты треугольником к ремню. Таких ребят Андриевский видел множество за войну. Они были нужны ему, но он их никогда не замечал, почти не видел. Все они казались ему одинаковыми, на одно лицо. Когда он на минуту высовывался из люка, автоматчик бросал на него такой же веселый, завистливый и уважительный взгляд, так же улыбался, как это делали все другие автоматчики. Андриевский понимал этот взгляд, эту улыбку. В их глазах он был счастливцем, аристократом, неуязвимым. И хотя он хорошо знал, как легко болванка прошибает броню, хотя много раз выскакивал он из горящих танков и оставил в пылающих железных коробках немало мертвых товарищей, он и сам считал себя счастливцем. Он не мог а представить себе, что это он, Борис Андриевский, прилепился жалким съеженным комочком к броне или бежит за танком в атаке, спотыкаясь, падая в грязь, задыхаясь от страха и напряжения.
С левой стороны башни сидел второй автоматчик. Таких Борис еще не видел. Он был старик. Лет тридцати пяти. А то и побольше. Шинель у него была мятая, изжеванная, торчащая колом. Хлястик был оторван. На спине висел тощий вещмешок, больше похожий на котомку. Ушанка давно потеряла квадратную форму, одно ухо у нее было опущено, другое — переломанное пополам — торчало вверх. Автомат лежал у солдата возле самого живота, прижатый к животу обеими ногами, так что колени почти касались подбородка. Держался он за холодную скобу, приваренную к башне, двумя руками. Пальцы были красными и грязными. Андриевский видел, что автоматчик боится танка, боится лязгающей рядом с ним гусеницы, боится толчков, боится башни.
Таких солдат раньше не бывало в десантных войсках. В пехоте — другое дело. Там у них было даже особое имя: Яшка-приписник. Откуда же этот взялся в десанте? «Ох и долгая война, — подумал вдруг Андриевский. — Неужели молодых стало не хватать? Или он случайно попал? Из пехоты…»
Читать дальше
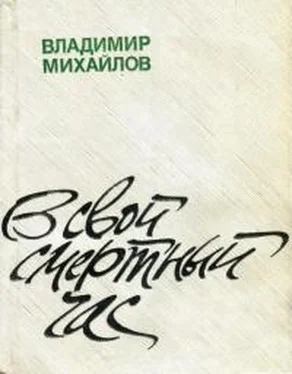







![Владимир Упоров - Смертный Бог [СИ]](/books/411019/vladimir-uporov-smertnyj-bog-si-thumb.webp)