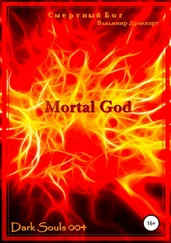— И ты выпей с нами, — весело говорит он. Поскольку Мария Васильевна не оказывает решительного сопротивления, он наклоняет бутылку еще немного, и из нее льется темная рубиновая струйка. А Иван Борисович при этом мягко приговаривает: — Немного можно… Винцо легонькое… Вроде церковного…
Письмо Тане от 19 февраля 1943 года
Дорогая Танечка! Пишу тебе совершенно пьяный. Не удивляйся: должен же когда-нибудь Боря быть пьяный? Это факт, а не реклама. Что тебе написать? Во-первых, я тебя люблю, люблю, безумно люблю. Но ты меня простишь: я же пьяный. Я отдал бы пять лет жизни за час, проведенный с тобой. Как бы это было хорошо! Ты часто пишешь, что я тебе пишу плохие письма. Ничего, Танечка, не поделаешь: я гордый. Эх, Таня, как мне пять минут назад было весело, и только вспомнил о тебе, о маме, и мне стало нехорошо. Если бы не война, то, возможно (а я в этом уверен), мы жили вместе, ты была бы моей женой. Как это хорошо!! (Заходите к моей маме.)
Да, но хватит нежностей. Я сейчас у Эрика в Чкалове. Выехал из Саратова 14-го. В вагоне устроился замечательно: опоздал на посадку, и поэтому часа три пришлось ехать стоя. Пришлось срочно знакомиться с проводницей. В результате поместился в ее купе, заодно перетащив туда своего бывшего соученика, а ныне дружка, некоего Димочку. 16-го приехал в Чкалов и узнал, что поезд на Челябинск едет только через три дня. Замечательно! Ведь в Чкалове живет Эрик! Нашел его квартиру, но никого не застал. Потом пришли его отец и мать (они меня вперед не узнали: «Ой, какой ты стал, Борис, большой!»), наконец и сам Эрик. Помнишь его? Тебе известно, что мы с ним друзья с пеленок? В одном доме с рождения жили. Ну не в том, конечно, суть. В нашем доме и других ребят навалом было. А другом настоящим только он стал! Как это получается? Как человек себе друга выбирает? Да и выбирает ли? Может быть, в этом какой-то закон есть, вроде Бойля-Мариотта? Тайна сия велика есть! А пока что Эрику на фронте руку пулей перебили, его уволили из армии, демобилизовали. Вот тебе и мой Эрик! А я его еще Кисулей зову. Выходит, недооценил я его боевые качества. Теперь Кисуля живет в эвакуации очень плохо. Но мы с ним все-таки весело провели время.
А сегодня страшно расстроился. Иду по улице и вижу — навстречу идет мой «отец». Я не могу передать, что со мной было. У меня был такой вид, что «отец» от меня шарахнулся, быстро отошел метров на пятнадцать и спрашивает: «Вы, наверно, меня с кем-нибудь спутали?» Голос оказался чужой. Но как он, Таня, похож на папу! И глаза, и очки, и усы — все папино. С горя зашел на рынок. Когда я покупал водку, меня поймал тыловой чин, поднял крик. Я ему дал высказаться, а потом сообщил, что я, мол, Вася, еду на фронт — и брось поэтому трепаться. Он немножко смутился и позволил удалиться мне. Утром еду в Челябинск. Напиши мне туда письмо и… сворачивай рацию: я, вероятно, уже буду на фронте. Напиши мне последнее письмо: простое, хорошее, наверно, последнее. Извини, если что-нибудь написал грубое. Нежно целую тебя. Целую. Напиши. Борис.
Иван Борисович ставит бутылку на стол и обращается ко мне:
— Церковное вино… Я сам, надо вам сказать, происхожу из духовного звания. Отец мой был деревенский священник. Как теперь говорят — поп. И меня он к тому же готовил: отправил некогда учиться в духовную семинарию…
Мария Васильевна слушает его, держа рюмку за тонкую ножку, смотрит на темное вино и чему-то улыбается про себя.
— Как же, — продолжает Иван Борисович. — Был семинаристом. Потом уж, после революции, мне это обстоятельство частенько напоминали. Хотя я в гражданскую войну в Красной Армии воевал. Но все равно вспоминали. К тому же отец мой и после революции оставался священнослужителем. До самой своей кончины. Ну, это считалось большим недостатком биографии. Конечно, посты я занимал небольшие, в планово-финансовом отделе главка легкой промышленности работал…
— Но там тебя все очень уважали, — вставляет Мария Васильевна.
— Был я, конечно, не крупный работник, но, бывало, как очередная чистка в учреждении начинается, так дрожишь за место. Семью кормить надо было? Жена, ребенок… Сын, конечно, ни о чем таком никогда не знал. Зачем ребенку знать? Он видел всегда в семье только мир и довольство…
Мария Васильевна, все так же улыбаясь чему-то своему, говорит задумчиво:
— Помню, приехали мы однажды на лето в свою деревню с родителями. Я еще совсем девочка была. Лет пятнадцати или шестнадцати. И помню, мне подружки рассказывают: «Попович на каникулы к отцу приехал. Очень собою красивый попович». В каком же это году было?
Читать дальше
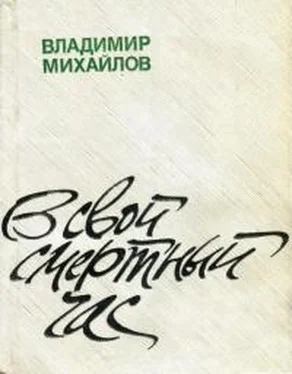







![Владимир Упоров - Смертный Бог [СИ]](/books/411019/vladimir-uporov-smertnyj-bog-si-thumb.webp)