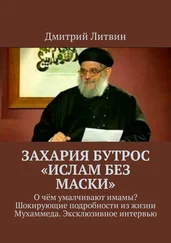Сорокин вроде как дремал, устало привалившись к двери; дремал и думал, дремал и все помнил. С ним теперь случалось такое. Спит и думает. А думается, конечно, все о том же: поскорей бы!.. Только вот с временем происходило что-то неладное. Время теперь тоже тащилось медлительным ходом изголодавшегося блокадника, ему тоже не хватало какого-то ускорительного питания. Декабрь тянулся до бесконечности, и люди с трудом дождались Нового года. Начался январь. Прошла уже почти половина января. А вчера кто-то вдруг вспомнил, что только еще наступил старый Новый год. И хотя никто здесь не справлял его, многим все же подумалось, что приходится вроде как заново начинать январь, что прожитые в таких трудностях тринадцать дней вроде как и не в счет. Обидно! Как будто и в самом деле календарь испортился и прокручивается вхолостую.
Сорокин пожалел, что маловато в траншее света, а то было бы самое время дочитать сейчас Ольгино письмо. Глядишь — согрелся бы…
— А ну, народ, поднимайся! За дело, за дело! — начал тормошить людей вернувшийся с рекогносцировки сержант Матюх.
И в траншее зашевелился, задвигался небыстрый саперный народ, заколыхались туго набитые мешки и стволы карабинов, зашмыгали по мерзлой траншейной земле, смешанной со снегом, растоптанные солдатские валенки. За дело так за дело…
Работали все равно как в отсветах недалекого бледного пожара. В трех-четырех сотнях шагов отсюда немцы по всей линии напропалую жгли ракеты, и здесь, на реке, тоже было достаточно светло, чтобы видеть мину и свои собственные руки, чтобы сделать ловкую ямку для мины. Но было, конечно, и неудобство от этих ракет: передвигаться приходилось только ползком, снаряжать и ставить мину — только лежа, не очень-то поднимая голову. От такой работы, конечно же, быстрее устаешь и притупляется чувствительность. Словом, нет худа без добра и добра без худа.
Сорокин работал, по обыкновению, аккуратно, сосредоточенно, ни о чем постороннем не думая. К этому он привык на стройках и с этим же пришел на фронт. В сущности, в армии, особенно в саперах, от человека требуется то же самое, что и в обычной рабочей жизни, плюс повиновение и неболтливость. Тех, кто много трудится языком, увиливает от дела и ноет от трудностей, здесь не любят. Да и не только здесь, пожалуй. Если ты, еще не приступив к работе, стараешься увильнуть от нее или противишься ей, ты ничего не стоишь ни в армии, ни в мирной жизни. Настоящий работник, если даже и без охоты примется за какое-то дело, все равно постепенно заинтересуется им, а после этого можно уже не сомневаться: все будет в полном порядке.
Закончив колдовать над очередной миной, Сорокин полз метр-полтора вперед, снова останавливался, выковыривал лопаткой кусок твердого наста, клал его рядом с ямкой и доставал из мешка новую мину. Вынимал пробочку. Просовывал в отверстие карандашик… Ага, тихий щелчок. Пробочка снова на месте — мина готова. Осторожно в ямку ее. Еще более осторожно накрыть ломтиком снега. Потом замести веничком «швы». Наконец Сорокин пригибал голову к самому снегу и смотрел на дело своих рук против света. И если все выглядело естественно, если на снегу не оставалось никаких следов работы, он полз вперед, напоследок пошуровав веничком и то место, на котором только что лежал сам. Для верности. Для полной маскировки.
Минер — это и охотник и лиса в одно и то же время. «Знаете, как ставит охотник капкан на лису? — говорил как-то на занятиях командир роты, кадровый сапер, воевавший еще в финскую. — Вот послушайте. Находит он лисий след, вырезает пласт снега с отпечатками кумушкиных лапок, ставит капкан и прикрывает его тем же пластом со следами. Потом все заметет, как это лиса своим хвостом делает, — и ушел… Вот так и мы, товарищи саперы, должны ставить свои мины».
Следом за Сорокиным, на расстоянии видимости, передвигался, шурхая по снегу, Джафаров, впереди, с отступом в полтора метра, тянул свою линию Рылов. Его тоже видел и слышал Сорокин. Так было решено: каждый ставит свой ряд — и сразу создается минное поле в три ряда. Но при этом, конечно, надо все время видеть друг друга, чтобы не наползти на мину соседа.
Немцы помогали видеть.
Они, правда, и постреливали — вдоль реки и с боков, вперехлест, но не азартно, не нервно, а просто так, для своего немецкого порядка, и пули пролетали все-таки повыше лежащего человека, так что они не очень мешали работать. Редко-редко пули ударялись в снег поблизости, и тогда уж приходилось замирать со снаряженной миной в руках. Замирать и не дергаться. Дело не только в том, что тебя могут заметить, но и в том, что, испугавшись, ты можешь нечаянно сдавить мину, и тогда здесь не нужен будет никакой враг — сам себя прикончишь или покалечишь.
Читать дальше
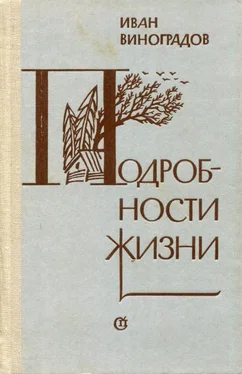

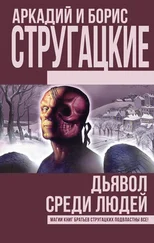
![Иван Виноградов - В центре Европы[Аврора, 1985, № 7]](/books/80934/ivan-vinogradov-v-centre-evropy-avrora-1985-thumb.webp)