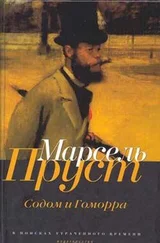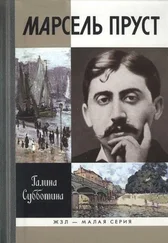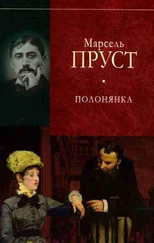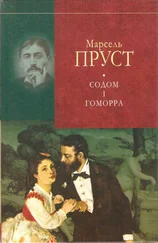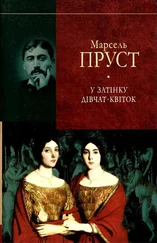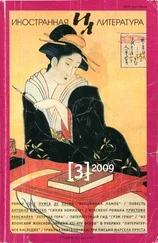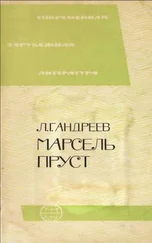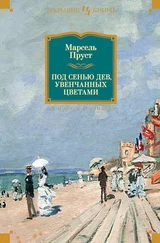Я почувствовал усталость и страх, ощутив, что это долгое время сплошь прожито, продумано, порождено мной, что оно стало моей жизнью, мной самим, что я непрерывно должен был держаться за него, что оно несет меня, взгромоздившегося на его головокружительную вершину, и невозможно сдвинуться, ее не перемещая. Точка, в которой я услышал звон колокольчика в комбрейском саду, была далека и вместе с тем внутри меня, она была ориентиром в бескрайних величинах, хотя я сам не подозревал, что подобный ориентир существует. У меня закружилась голова, когда я увидел внизу и при всем том в себе, — как если бы во мне было много лье высоты, — великое число лет.
И я понял, отчего герцог де Германт, чьей моложавостью я восхищался, пока он сидел на стуле, хотя под его ногами было намного больше лет, чем под моими, затрясся, привстав и попытавшись устоять на колеблющихся ногах, как эти старые архиепископы, в которых уже ничего прочного, только металлический крест, когда к ним поспешают юные крепкие семинаристы, и не смог и ступить, не дрожа как лист, по непроходимой вершине восьмидесятитрехлетия, будто люди стоят на постоянно растущих, подчас выше колоколен, живых ходулях, и в конце концов их передвижения становятся трудны и опасны, и они падают. (Не от того ли даже несведущим глазам было так трудно спутать лицо человека зрелого возраста и юноши, которое набегало на него, когда тот насупится, лишь своего рода облаком?) я с ужасом вспомнил, сколь высоки мои, и что я еще недолго смогу удерживать это прошлое, опускавшееся так глубоко. И всё же, если мне отпущено достаточно сил, чтобы исполнить мой труд, то прежде всего я опишу людей, даже если в результате они будут походить на чудовищ, как существ, которые занимают значительное место, подле столь ограниченного, отведенного им в пространстве, место, напротив, безмерно вытянутое, поскольку они синхронно касаются, как гиганты, погруженные в года, самых удаленных эпох, прожитых ими, — и между ними может уместиться столько дней, — во Времени.
Конец.
1. Краткая история «Обретенного времени»
Осенью 1912 г., в письме издателю Эжену Фаскелю, Марсель Пруст (10.7.1871‒18.11.1922) рассказывал о книге, называвшейся в то время «Перебоями сердца»: «Первый том я назвал “Временем утраченным”. Если я смогу уместить остаток в одной книге, я назову ее “Временем обретённым”». Конец повествования был известен для автора с самого начала: первые наброски рассказа об утреннике у принцессы де Германт были завершены Прустом еще в 1909 г. — тогда они были частью незаконченного сочинения «Против Сент-Бёва». Концепция «непроизвольной памяти», о которой заходит речь с первых страниц «Поисков», была изложена Прустом еще раньше, в незаконченном романе «Жан Сантёй». Около 1902 г. Пруст оставляет работу над этим романом и переводит Рёскина («я не специалист по английскому языку, я специалист по Рёскину»); во многом именно этому труду обязаны «Поиски» своими эстетическими мини‑трактатами.
Чистовики «Поисков» записаны в двадцати тетрадях, из них ОВ занимает конец XV и тетради XVI-XX. Работа над чистовым текстом ОВ (1916‒1918) завершена не была. Смерть помешала Прусту закончить правку над «Пленницей»; по мере исправления предшествующих томов в текст ОВ вставлялись «paperoles» («бумажища», как называла их Франсуаза) — узкие длинные листы бумаги. Точное место их вставки почти никогда не оговаривалось.
Весной 1922 г., за несколько месяцев до смерти, на предпоследней странице «Тетради XX и последней» чистовиков «Поисков», Пруст написал слово «Конец».
Итак, по мере роста «Поисков» между первым томом и «утренником» уместились пять томов текста, а в заключительный роман, «Обретенное время», был добавлен рассказ о войне, гонкуровский пастиш и «помпейские фрески» дома Жюпьена. Первые страницы ОВ принадлежат признанному классику французской литературы, а завершение романа, в основных чертах, — автору, издающему сочинения за собственный счет.
2. Композиция
Внутренняя хронология «Поисков» условна, и при любой попытке ее последовательного построения придется игнорировать добрую часть фактического материала. Даже в гонкуровском пастише, значимом для композиции ОВ, Пруст допускает более чем очевидный ляп в отношении Эльстира (см. прим. 18) — и это при том, что пастиш писался уже после выхода первого тома из печати, что никаких вариантов история с Эльстиром не допускала. Можно предположить, что фактографическая чехарда повествования — в какой-то мере осмысленная деталь композиции: если персонаж может несколько раз умереть и воскреснуть, то этим Пруст подчеркивает его незначимость и заменимость. События могут быть взаимоисключающими, а значит важно не то, что они происходят, но оставленный ими след. В нефактографической части повествования подобных нестыковок почти нет.
Читать дальше