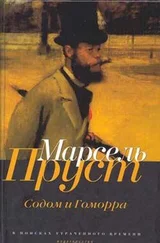Мысль о смерти окончательно обосновалась в моей душе, как прежде мысль о любви. Не то чтобы я любил смерть — я ее ненавидел. Но, думая о ней время от времени как о женщине, которую еще не любишь, я приобщил ее к самому глубокому пласту моего сознания, и если какой-нибудь предмет еще не пересек идеи смерти, я не мог заняться им; даже если я был свободен и пребывал в полном покое, мысль о смерти составляла мне столь же неотвязную компанию, как мысль о себе. Я не думаю, что в тот день, когда я омертвел, все эти сопутствующие обстоятельства — невозможность спуститься по лестнице, вспомнить имя, подняться, — каким-то бессознательным действием мысли определили представление о смерти, что я был почти мертв; скорее, всё это явилось совокупно, и огромному зеркалу духа надлежало отразить новую реальность. Однако, я не мог понять, каким же это образом мои болезни, ничем не предуведомленные, могут привести к неотменимой смерти. Но тогда я вспомнил о других, о тех, кто с каждым днем близится к концу, хотя расстояние между их болезнью и смертью не видится нам огромным. Я также подумал, что если некоторые недомогания не казались мне смертельными, то лишь потому (даже если закрыть глаза на искривляющую их призму надежды), что я смотрел на них изнутри, взяв их по-отдельности, хотя и верил в свою смерть — подобно тем, кто знает, что смерть у порога, но с той же легкостью убеждает себя, что если он и не может произнести некоторых слов, то это не имеет никакого отношения к удару, афазии и т. д., но вызвано усталостью языка, нервным состоянием, подобным заиканию, либо истощением, обусловленным несварением.
Я все-таки должен написать нечто другое, более долговечное, книгу, которая послужит не мне одному. Писать придется долго. Днем я, самое большое, старался бы заснуть. Я буду работать только ночью. Но мне понадобится много ночей — может быть, сто, а может и тысячу. И я жил бы, тревожась по утрам, когда я прерывал бы свой рассказ, что Повелитель моей судьбы, не столь снисходительный, как султан Шахрияр [197], не отложит последнюю остановку, что он не позволит мне продолжить повесть в следующий вечер. Не то чтобы я рассчитывал хоть в чем-то повторить «Тысячу и одну ночь» или «Мемуары Сен-Симона», также писавшиеся ночью, или какую-нибудь другую любимую мной книгу, поскольку я в детской наивности привязался к ним, как к любовным чувствам, и не мог без ужаса представить отличное от них произведение. Но так и Эльстир воссоздал Шардена — ведь нельзя воскресить то, что ты любишь, прежде не потеряв. Наверное, мои книги тоже, как моя живая плоть, в конце концов умрут. Надо покориться смерти. Мы смиряемся с тем, что через десять лет нас самих, а через сто лет наших книг уже не будет. Вечная жизнь отпущена книгам не в большей степени, чем людям.
Может быть, эта книга будет так же длинна, как «Тысяча и одна ночь», только она будет другой. Наверное, влюбившись в произведение, мы хотим создать нечто подобное; но следует жертвовать преходящей любовью и помнить не о своих пристрастиях, но только об истине — ей безразличны наши предпочтения, она запрещает нам помышлять о них. И если мы следуем ей одной, мы когда-нибудь внезапно откроем, что рассказываем то, от чего бежали, и написали, забыв о них, «Арабские сказки» или «Мемуары» Сен-Симона своего времени. Но было ли еще у меня время? не слишком ли уже поздно?
Я спрашивал себя не только о том, есть ли еще время, но и в состоянии ли я еще. Болезнь, что вынудила меня, как жестокий духовник, умереть для света, сослужила мне службу («ибо если зерно пшеницы не умрет после того, как его посеяли, оно останется одно, но если умрет, то принесет много плода» [198]), — и теперь она, как раньше леность, охранившая меня от легкомыслия, быть может, сбережет меня от лености; но заодно она поглощала мои силы, и, как я давно уже заметил, как раз тогда, когда разлюбил Альбертину, силы моей памяти. Но воссоздание памятью впечатлений, которые надлежало затем углубить, осветить, преобразить в умные духовные эквиваленты, — не было ли это одним из условий, если не самой основой произведения искусства, каким оно представилось мне только что в библиотеке? о если б у меня еще были силы, еще нетронутые в тот вечер, воскрешенный моим воспоминанием, когда я взял в руки «Франсуа ле Шампи»! Ведь к тому вечеру, когда мать отступила, восходит медленная бабушкина смерть, закат моей воли и здоровья. Всё определилось в ту минуту, когда, больше не в силах ждать завтрашнего дня, чтобы прикоснуться губами к лицу матери, я набрался решимости, спрыгнул с кровати, и, в ночной рубашке, подбежал и приник к окну, откуда лился лунный свет, а потом услышал, как уходит Сван. Мои родители проводили его, я услышал, как калитка открывается, звенит, закрывается…
Читать дальше