— Только так! — кивнула госпожа.
Они встали, собрались в путь. Казалось обоим, много времени провели они в этом винограднике. Душа у обоих еще трепещет, взбудораженная всем тем, что тут разыгралось. Ни тот, ни другая не скрывают, что стали беднее многими надеждами, многими мечтами; зато рады они тому, что установился мир, и расходятся они дружески.
Мате оседлал Галешу, помог госпоже сесть в седло, и пошли они, не торопясь, по тропке меж пышными виноградниками, буйная зелень которых, казалось, выплескивается, вскипает над серыми камнями невысоких оград. Скользят впереди идущих тени, призрачные карикатуры; птички вспархивают из-под ног, прячутся в кусты; Анзуля и Мате молчат, каждый несет в себе свою думу и заботы. Одной рукой Мате держится за седло, чтобы успеть помочь, если Галеша оступится или испугается чего-нибудь.
А шьора Анзуля? Она тоже вновь и вновь переживает вчерашнее. Как удивительно все менялось! Сколько ступеней прошли ее мысли, горести, тревоги! И вот теперь — этот мир, это успокоение… Теперь она даже рада, что пришлось ей все это пережить. Сколь многое уладилось, сколько головоломок решено само собой, почти без усилий с ее стороны. А главное — ничем не поступилась! И не надо ей устраняться от того, ради чего она живет, в чем видит радость, с чем хотела бы прожить до самой смерти. Правда, она поддалась, склонила голову, взяла на себя ответственность — новую, которой страшилась еще вчера, как невыносимой тяжести; но — не потеряла ничего, и теперь ей уже наполовину легче. Словно какая-то неведомая, таинственная сила помогает ей нести это новое бремя, и сила эта поднимает ее, утешает, ободряет…
«Пускай же все будет на пользу, на счастье нам!» — посылает она свою мысль туда, в вышину, у которой привыкла просить и ожидать помощи. Молится она за счастье своих, готовая забыть о ранах на собственном сердце, о тяжкой своей жертве. И милый образ девушки, которую она лелеяла для сына, которой так радовалась, — даже этот милый образ постепенно задергивается завесой забвения. «Будь мужественной — и никакая жертва не покажется тяжкой…»
Шьора Анзуля вернулась домой ободренная, воспрявшая духом. Обычным тоном поблагодарила Мате за труд. Она снова чувствует в себе силу и уверенность, которым привыкла подчинять всех. Первым долгом подошла к прачкам, выбранила их за то, что опоздали утром, что зря расходуют мыло; даже Мандине досталось, зачем не присмотрела. Служанка страшно обиделась, ушла без слова — накричать на кого-нибудь там, в кухне… Хорошо, подвернулась коза, истошно блеявшая в хлеву. «Небось, голодная, никто ей не подбросит! Еще доиться перестанет…» И Мандина, набрав охапку оливковых веток, поспешила в хлев.
«Надо знать нрав хозяйки, — рассуждает про себя Мандина: обида ее уже почти улеглась. — Когда кричит — смолчи, уйди с глаз, она раскается, и опять все ладно…»
— Где молодой хозяин? — войдя в кухню, спросила ее шьора Анзуля уже снова мирным тоном.
— Наверху, видать, — ответила Мандина. — Целый день из дому не выходили. Бог ведает, что это с ними.
— Ступай скажи ему — я буду ужинать в семь часов. Проголодалась я. Он, если хочет, пусть ужинает со мною, а нет, так позже.
Вскоре спустился Нико. Заметно, что в нем произошла большая перемена. На лице уже не играет непосредственная, беспечная жизнерадостность. Следы забот, трудной внутренней борьбы обозначились на лбу. Но, поймав взгляд матери, в котором светится доброта и ласка, Нико тотчас повеселел.
— Я тоже проголодался, мама! — сказал он, и видно было — он старается говорить весело, беззаботно. — Без тебя обед невкусным показался. Знал бы я, где ты, оседлал бы Руменко, и за тобой…
— Пораньше надо было встать, — усмехнулась Анзуля. — А наш хозяин, как всегда, проспать изволили. Да и лучше, что проспал, — прибавила она, и странный какой-то огонек вспыхнул в ее глазах. — Мне нужно было уладить кое-что, а молодой барин были бы мне вовсе не в помощь.
Нико не догадывался о значении этих слов. Да ему и на ум не пришло вникать в их смысл — он принимает вещи такими, каковы они есть, к тому же голова его полна другим.
Снова шумно во дворе; жизнь кипит, как всегда. Никто бы и не сказал, что нынче утром, едва лишь из этого сложного механизма выбыло главное колесико, вернее, главная пружина, все как-то застопорилось. Даже Юре далекими, туманными кажутся теперь странные речи, которых он сегодня наслушался, да и сам наговорил: словно во сне прошумело… Никак эти речи не вяжутся с той жизнью, что течет здесь, во дворе, без перебоев, трезво и плавно, по раз и навсегда проложенному руслу.
Читать дальше
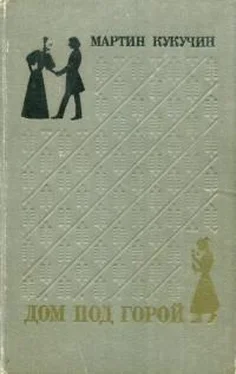



![Хью Пентикост - Убить,чтобы остаться [Город слухов. Дом на горе. Уберегите ее от злого глаза. Убить, чтобы остаться]](/books/86867/hyu-pentikost-ubit-chtoby-ostatsya-gorod-sluhov-thumb.webp)



