— Бедное мое дитя. Катица моя!
Тогда выпрямилась госпожа во всей своей гордости, лицо ее вспыхнуло, молнии блеснули во взоре:
— Так вот какое несчастье для тебя — выдать дочь замуж в мой дом! Право, ты один такой. Немало, пожалуй, нашлось бы людей, которые рады были бы…
— Какое замужество! — не отнимая рук от лица, простонал Мате. — Чему мне радоваться? Легко радоваться тем, кто верит, что так и должно быть. А это — нет, этого не должно случиться! — Тут и он поднял голову, и его глаза метнули искры. — Нет, никогда! Выбью я из ее головы всяких бар! Доброе противоядие дам ей против барских прихотей! Ох, не бойся, я еще, слава богу, жив! — И он грозно поднял свой могучий, твердый кулак.
Шьора Анзуля опешила. Никогда не видела его таким — она, госпожа, его, тежака! Мате всегда был вежлив, учтив, с налетом некоторой сердечности, хотя он никогда не унижался, не раболепствовал. Ее гнев, ее гордость превышены гневом и гордостью крестьянина! И видит Анзуля — договориться с этим человеком будет труднее, чем она предполагала.
— Неужели ты хочешь разлучить их… силком?! — воскликнула она чуть ли не просительным тоном. — Насилию тут не может быть места. Сына я знаю, а твоя дочь… пожалуй, такая же.
— Ах, госпожа, зачем вы терзаете мне сердце! Зачем мучаете! Я и сам знаю, понимаю — им не прикажешь… Но лучше пускай погибнет, чем жить в позоре! Что такое смерть? Отдых, освобождение, а позор…
Голос его прервался, на глазах выступили слезы. Ужасные картины представились ему: его Катица, прекрасный цветок, затоптана в грязь, отвергнута… Бродит, нищая, покрытая позором, скрываясь от его, отцовского, взора…
— Ох, и зачем я дожил до этого злосчастного дня! Что мне еще надо на земле?..
— Мате, опомнись, Мате, послушай! — Анзуля испугана этим взрывом горя, страшного у такого скромного, тихого человека, который всегда придавал большое значение приличиям и условностям на людях.
— Чего же тут думать! Нет, тут не плакать надо… Мое дитя, прекрасное, надежда моя, утеха в старости — и какой ждет ее конец? Я ее воспитывал в добродетели, а она — она в грязь бросается, в погибель! Как же не плакать над ней, как не возмущаться порочным, безбожным воспитанием…
Тут он с угрозой посмотрел в лицо госпожи; на висках его вздулись вены, сжались кулаки — сейчас рванется, будет бить, ломать, крушить… Но когда он увидел, какой ужас охватил эту женщину, ему стало стыдно: гнев его улегся.
— Простите, госпожа, — коротко сказал он, избегая ее взгляда. — Простите, я не хотел вас напугать.
— Мате, Мате, тебе ли обвинять?! — вскричала с укором шьора Анзуля, еще не оправившись от испуга. — Разве я виновата?
— А кто виноват? — вспыхнул он. — Кто должен показывать нам добрый пример, нам, низким, которые от зари до зари копаются в черной земле, чтоб с голоду не помереть да чтоб наши господа могли жить в роскоши? Они должны светить нам, которым некогда глаза от земли к небу поднять… А что мы видим? Именно из их домов выходит гниль, смрад и порча, заражает наши тихие хижины, наши чистые семьи… Кто виноват, что ваши буйные сыновья ходят к божьему храму, чтобы искушать наших дочерей и молодых жен? Нельзя силком — нельзя, потому что дитя росло без страха божьего; нет над ним ни господина, ни хозяина. Любую прихоть надо исполнить, ни в чем отказа нет! Одернуть, предостеречь, даже наказать — о нет, это не для барских баловней! Дайте им волю! Пускай марают, топчут честь, надругаются, рвут святые узы! О госпожа, скажите сами, куда нас это приведет? Как вам требовать послушания от нас, когда вы не можете наложить узду на собственные страсти? Ваши сыновья не знают пределов своему буйству — как же нашим-то сыновьям положить предел своей зависти и возмущению? Неужели так уж суждено и вам и нам — пойти в ножи?!
Шьора Анзуля вскочила, пламя в глазах, лицо пылает. Каждый упрек этого умного тежака хлещет ее, как кнутом. Прикрикнуть на него, усмирить голосом, перед которым дрожит челядь… Но ее решимость, ее энергия надломлены. Беспрестанно звучит в душе: «Ты виновата! Ты! Ты не ставила преград. Поощряла своеволие сына… Ты виновата: зачем не вмешивалась в известные дела его? Не осуждала — еще тешилась втайне, льстило твоей гордости, что ни одна не устоит перед сыном… Ты виновата!»
Слезы хлынули у нее — слезы не раскаяния, а злости: вот, приходится ей выслушивать простого тежака, и нечего ему возразить! В душе-то должна она с ним согласиться… «Ты виновата, ты!» Ах, как бы она теперь направляла сына, как отчитывала бы его и наказывала! Нет, не стала бы впредь смотреть сквозь пальцы на те его дела, которые насмешливо называла «известные». Но что делать теперь? Поздно — на ней лежит вина, на ней — ответственность…
Читать дальше
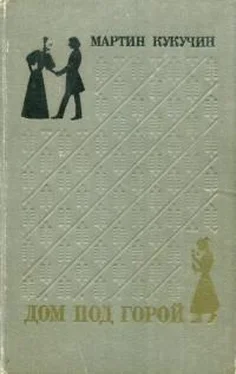



![Хью Пентикост - Убить,чтобы остаться [Город слухов. Дом на горе. Уберегите ее от злого глаза. Убить, чтобы остаться]](/books/86867/hyu-pentikost-ubit-chtoby-ostatsya-gorod-sluhov-thumb.webp)



