Правда, недолго предавался Претур чувству гордости и любованию. Подметил он в лице дочери целое половодье счастья; взгляд ее широко раскрытых глаз словно утопает в сладостной мечте… Наслаждается образами нового, пускай выдуманного, мира… И страх проснулся в душе отца, жестокая озабоченность: не цветущие нивы увидел он в будущем своего ребенка, а нечто совершенно иное. Озабоченность затопила душу, размыла отцовскую гордость и радость.
Полька кончилась, Катица бросила нечаянный взгляд к двери и увидела задумчивое лицо отца. Разом порвалась нежная паутина мечты, опутавшая душу и мысль. Снова встала перед Катицей действительность, обнаженная, суровая. Заплакать бы Катице, закричать от боли: нет выхода, нет надежды… Из царства цветов и грез должна она возвратиться в пустыню обыденности, где только колючки да репейник… С высот, куда взлетела она, — спуститься в низину, смешаться с толпою малых, низких людей…
И уже не думает она со страхом, что скажет отец: ей это безразлично. «Пускай говорит, что хочет, — мне все равно!» Что может он еще отнять, когда ничего больше нет у нее, убогой, изгнанной из рая? А слова — слова прошумят над ней, измученной, изломанной… Катица сама, со строптивым сердцем, холодно поклонилась кавалеру, который недоумевает: что это с ней вдруг? И с высоко поднятой головой подошла к сестре.
— Ну, пойдем. Отец ждут, — сухо промолвила она.
— Видишь, говорила я тебе, — с укором отозвалась Матия. — Что они теперь скажут? Заругают…
Катица презрительно усмехнулась. Взяв свою косынку со стула, ответила:
— А что они могут сказать? Не бойся, ничего они не скажут. Коли так уж боишься — свали всю вину на меня. Мне-то что.
Матия взглянула удивленно: смелость и решительность сестры успокаивают. И опять невольно почувствовала она превосходство Катицы над собой, опять видится Матии, что осталась она далеко позади…
Сестры ушли так же внезапно, как и появились. Шьора Андриана торжествует, но не в ее силах изгладить впечатление, оставленное ими. Бал продолжается, течет по естественному своему руслу, но уже не украшает его дивный облик черноокой девы, которая ворвалась метеором, да и улетела… Нико Дубчич так смотрит на дверь, словно за нею скрылось его солнце. Впервые в жизни пала ему на душу дума, закрыла темным крылом светлый горизонт, еще так недавно казавшийся ему цветущим садом… Нет, жизнь не так проста, она — не широкое, раздольное поле; не одни цветы бросает она под ноги, цветы, которые можно срывать, топтать… Жизнь — неизведанная страна, в ней много провалов, гор, тупиков… Трясины встречаются в ней, трясины, болота, над которыми кружат стаи воронья; а вокруг гор собираются тучи, и молнии поблескивают, погромыхивает гром… Изумленно озирается Нико Дубчич, пелена спала с его глаз, и он — впервые в жизни! — ясно видит, что мир-то создан вовсе не ради него одного, не ради исполнения каждого его малейшего желания, каждого каприза; напротив, он сам, Нико Дубчич, всего лишь крошечное зернышко, пылинка в этом мире, и будет бросать его во все стороны, пока не пройдет он предначертанный ему путь…
Катица первой вышла со двора; на улице постояла, поджидая отца с сестрой. Ночь теплая, мириады заезд переливаются на небе — а у Катицы губы дрожат, мороз пробегает по коже. «Ну и пускай кричит, ругает! — мелькают строптивые мысли. — Пускай даже побьет, коли ему так нравится…» Катице всерьез думается, что ей было бы огромным облегчением, если б отец ударил ее. Физическая боль хоть на минутку заглушила бы боль другую, что засела глубоко и рвет ей душу.
Но отец, поравнявшись с нею, не сказал ни слова. Молча шагает он по темной улице, и не заметно, чтобы он гневался.
Вышли на площадь, ярко освещенную ради праздника. Не только все городские фонари в исправности — освещены и палатки с балаганами. Люди еще толпятся перед ними, выбирают, покупают, а то и просто прогуливаются группками по площади. Тихая, теплая ночь, небо усеяно звездами, приятная прохлада, приподнятое, праздничное настроение — все это, несмотря на поздний час, выманило людей из домов. Хозяин кафе расставил столики прямо под открытым небом, перед управой. За самым большим из них сидит вся знать города. Сюда же прибегают и молодые господа, улизнувшие с бала — «освежиться воздухом», а заодно и кружкой пива. Кто постарше, и вовсе пускает тут корни. Здесь уже сидит доктор, очки его взблескивают в отсвете фонаря, словно огненные круги, — здесь и наш инспектор, гость бургомистра; он еще утром приехал из Дольчин. И все асессоры налицо; сюртуки наброшены на плечи, жилеты расстегнуты — после трудного, знойного дня люди наслаждаются вечерней прохладой. Хозяин кафе, засучив рукава, разносит сараевское пиво в бутылках, прямо со льда — такая роскошь доступна только во время фьеры: лед приходится доставлять с высоких гор Приморской Планины, в глубоких ущельях которой он держится даже летом. Пиво пьют скорее из молодечества, ибо никто — кроме, пожалуй, инспектора и доктора, — не находит в этом удовольствия: вкусом своим пиво смахивает на отвар белены, охлажденный на льду.
Читать дальше
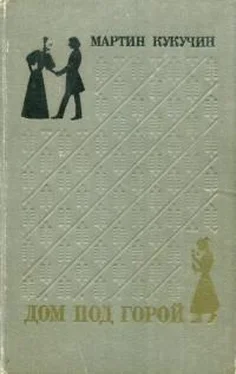



![Хью Пентикост - Убить,чтобы остаться [Город слухов. Дом на горе. Уберегите ее от злого глаза. Убить, чтобы остаться]](/books/86867/hyu-pentikost-ubit-chtoby-ostatsya-gorod-sluhov-thumb.webp)



