— Что же это такое, господин доктор? — осмелился спросить средний брат Франич. — Надо понимать, тяжко ему?
— Да уж тяжелее и быть не может. — Доктор даже рад, что худшее уже сказано. — То, что в нем растет, будет все увеличиваться, и мешать, и мучить. Возможно, распухнет…
— Значит, надо понимать — помрет он? — выдавил из себя Иван с ужасом на лице.
Врач беспомощно развел руками.
— И вылечить нельзя? Никак?
— Доктора лечат, Иван, — излечивает бог.
— Понял, господин доктор…
Задумались братья, потупились, привыкая к мысли, что самый младший, кость от кости их, будет вырван из семейного круга. Откуда она нагрянула, такая беда? Кто наслал ее так внезапно? Был человек, что дуб — здоровый, жизнерадостный — и вдруг налетает вихрь, выворачивает с корнями, как вековое дерево…
— Хуже всего, — угрюмо добавил врач, — что он может долго промучиться. Бедный Мате! Право, мне очень жаль его… Не знаю, случайность ли это, но как-то получается, что именно хорошим людям выпадают на долю самые тяжкие страдания, пока не смилуется над ними смерть. А в подобных случаях смерть — поистине избавление…
Услыхав такие слова из уст постороннего, из уст человека, очерствевшего от чужих страданий, братья заплакали и, придавленные горем, побрели к своим домам. Доктор крикнул еще им вслед:
— Никому об этом не говорите! Дойдет до его слуха — еще пуще мучиться будет!
Братья кивнули и, сгибаясь под новым бременем, которое навалила на них жизнь, вернулись к своим делам.
Доктор пришел домой, уже несколько успокоившись. Он сбросил с себя тяжесть, взвалил ее на плечи других. Болезнь Мате мучила его, как кошмар, давило сознание беспомощности. Но теперь он снял с себя ответственность и с некоторой долей злорадства даже подумал: «А теперь делайте, как знаете». Однако некая заноза еще осталась после тяжелых впечатлений, нахлынувших на него с утра. Супруга его тотчас это заметила, по тому, как неохотно пьет он кофе, и даже хлеб в него, по привычке, не крошит, — и заявила:
— Vita dei cani! [61] Собачья жизнь! (итал.)
Нет, сыну я не позволю изучать медицину, лучше сразу утопить! Разве это профессия, как все другие? Нет, это какой-то склад чужих несчастий…
Доктор относился к Мате уже не как врач, не как объективный ученый, смотрящий с высоты своих знаний. Что проку знать ему болезнь Мате, ее характер, развитие и течение, если он столь же бессилен против нее, как и те, кто ее не знает? Новая мазь не принесла облегчения. И поздно вечером доктору пришлось снова поспешать под Грабовик.
— Жаль мне вас утруждать, — встретил его больной, с трудом разгладив свое лицо, искаженное болью, — но что поделаешь — невмоготу мне… Кабы смерть пришла, вот сейчас, в этот миг — был бы я самый счастливый на свете…
— Ах, друже мой, что ты говоришь! — крикнула Ера, бросаясь на его постель. — Что ты говоришь! Ты хочешь покинуть нас?!
— Придет и мой черед, и не думай, что смерть — самое худшее…
— Ну, ну, Мате, терпение! — стал утешать его доктор. — Эту ночь отдохнешь, не бойся. Завтра тебе станет куда легче.
— Услышь вас господь! — молитвенно сложила руки Ера.
Поело вспрыскивания Мате действительно полегчало. И вскоре он заснул сном, как все уверяли себя, здоровым. Соседи один за другим удалились, легли и домашние с новой надеждой в сердце, проводив доктора, как некую высшую власть, способную утишить боль. Но Ера, глядя на спящего мужа, не удержалась, шепнула сыну:
— Кто его знает, как-то будет… Доктор тоже может ошибиться, а бог-то, он ведает, что кого из нас ждет…
Дело в том, что деверья передали ей заключение доктора, которое ее ужаснуло, — и теперь в ней проснулись сомнения.
За первой грозной атакой болезни последовали спокойные дни; боли лишь изредка давали о себе знать с такой силой, чтобы звать доктора. Тем не менее всем уже стало ясно, что помощи нет и выздоровления не будет. Дни, а может быть, и часы Мате сочтены… Поэтому, когда он пожелал исповедаться, никто его не отговаривал. Даже Ера больше не плакала. С покорностью судьбе ожидала она неминуемого.
В одно тихое утро после рождественских праздников зазвонил средний колокол церкви — да странно так зазвонил: звонарь ударял по одному его боку, словно бил набат. У кого был досуг, все потянулись к церкви, где должна была начаться месса; и вот уже седой дон Роко стоит под балдахином, который держит над ним услужливый Динко Лопатич. Впереди двинулись министранты в белых стихарях, усердно вызванивая колокольчиками. Их резкий звук разносится по тихому городку, как предостережение, как некая угроза, и каждый, кто может, присоединяется к торжественному шествию, вполголоса читая молитвы.
Читать дальше
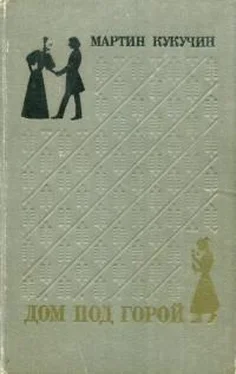



![Хью Пентикост - Убить,чтобы остаться [Город слухов. Дом на горе. Уберегите ее от злого глаза. Убить, чтобы остаться]](/books/86867/hyu-pentikost-ubit-chtoby-ostatsya-gorod-sluhov-thumb.webp)



