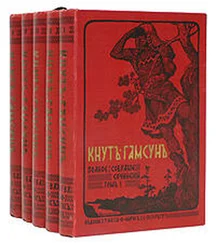— Я вообще мало что знаю.
Поулине продолжала свою речь:
— Вот в пасхальной проповеди он помянул о том, что Иисус в беседе с Пилатом перешёл на другой язык. А сделал он это потому, что Пилат прибыл в Иудею из Рима и, стало быть, не умел говорить по-еврейски.
— Интересно, — сказал Эдеварт, — надо было порасспросить об этом Папста, ты ещё помнишь Папста? Ну того старого еврея-часовщика.
Да, Поулине его помнила, имя помнила, да и чего тут помнить, ну Папст и Папст, нечего уходить от разговора. И вдруг она поспешно управилась с волосами и собралась идти.
— Мог бы и пойти со мной, — обронила она через плечо.
Он же стоял и глядел ей вслед. Покуда он болтался в эмиграции и разбирался в своих отношениях с Лувисе Магрете, разве и его душу не согревала вера в Бога? Но теперь, вспомнив о вере детских лет, он не признал её, вера отошла, поблёкла. До чего ж безразличны были для него слова сестры, столь важные для неё самой! Всё это не имело для него смысла, он даже не понимал, о чём речь, — сплошь благочестивая болтовня. Как мало его занимало название Бога по-древнееврейски и все прочие библейские штучки! Папст был совсем другой, такой гигант мысли, с карманными часами, которые то шли, то стояли, а ещё молодые годы, и гул ярмарки, и женщины, и мимолётные интрижки, безумства, дни шкиперства, переход вдоль берега, Доппен, ветер в три балла...
Впрочем, и эти впечатления молодости Эдеварт в глубине души вспоминал с глубоким равнодушием, он не улыбался, он не получал удовольствия от воспоминаний, всё это было давным-давно и быльём поросло, он побывал в Америке, воспоминания сошли на нет, но взамен он не получил ничего.
А Поулине ушла. Разве она не стояла вот только что перед ним, не прихорашивалась для другого, а что, собственно, значит «для другого»? То, что и Поулине тоже человек и что её сердце подвластно страстям. Зов сердца деспотичен, Поулине трудилась всю неделю не покладая рук, но в воскресенье она послушалась зова сердца и отправилась в церковь — полмили туда, полмили обратно. А на какие жертвы пошёл бы он сам, повинуясь зову собственного сердца? Впрочем, его сердце молчало. Может, он просто какой-то выродок? Без сердца и без зова?
— Ты чего это стоишь? — окликнул его Йоаким от дверей дома, явно вознамерившись завести с ним беседу. — Сегодня воскресенье, разве тебе не надо приодеться?
И в самом деле, чего он стоит здесь, посреди двора? Ведь не ответишь же, что стоит он, пытаясь снова стать человеком.
— Я просто разговаривал с Поулине, — ответил он. Неспешными шагами Эдеварт покинул двор, прошёл мимо усадьбы Ездры, вышел за околицу. Там всё было спокойно и тихо, лишь трепетали листья осины да маленькая пичужка перепрыгивала с ветки на ветку. Он сел. Время от времени издалека доносился звон коровьих колокольчиков, тёплый звук, милый его ушам. Звон то удалялся, то приближался, как перелётный псалом, заставлявший его шептать: «О Боже, о Боже!», шептать без всякой цели, просто так.
Он снова стал тем, чем был прежде. А зачем, спрашивается? Вернувшийся домой американец Эдеварт Андреасен не какое-то там чудо, он стал таким, каков он есть, то есть опять стал человеком. Можно ли сказать, что жизнь плохо с ним обошлась? Сделала его не тем, к чему он был предназначен, столкнула с пути истинного? Да ничего подобного. То, чем он был двадцать лет назад, опустилось теперь на самое дно, то, чем он стал позднее, со временем откладывалось в нём, слой за слоем, теперь уже ни от чего нельзя было отделаться, вот он и сидел с этими своими слоями, настоящий законченный бродяга.
Тогда к чему же раздумья, что его так угнетает? День выдался ясный, и не простой, а воскресный, праздничный, в кустах возятся малые птахи, позванивают колокольчики, вереск растёт, лес покоится в сладкой тишине — и такая серая безнадёжность на душе. Неужели в нём что-то разрушено, что-то испорчено, может, от него дурно пахнет? Ха-ха-ха! Какие заковыристые вопросы! Никаких особых забот у него нет, и кости у него целы, и в кармане у него несколько сот крон, и на ногах у него башмаки с толстыми подметками, так чего ж ему недостаёт? Может, всё дело в том, что он — вернувшийся из дальних странствий бродяга? Он сам себя не узнавал, наследие родной земли обратилось в ничто, даже суеверия и предрассудки куда-то подевались, а ведь были частью его сути, теперь же их нет и в помине. Умалилась его духовная жизнь, он стал ничтожеством.
Господь да пребудет с ним! Господь делает всё возможное, даже для бродяг, Он не мешает им жить. Он проведал, что они обратились в ничто, что даже их опустошённость — это ничтожная мелочь, лишённая всякого величия, примитивное убожество, простейшее падение, но Он не мешает им дышать.
Читать дальше