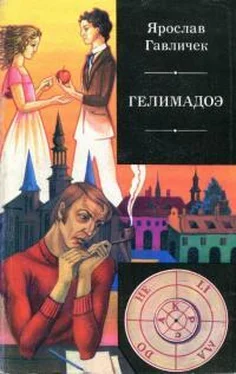Вдруг она подняла тонкие, длинные, извивающиеся руки, дотянулась ими до того угла, куда я забился, и потащила к себе, будто в слоновьем хоботе. Поднесла ко рту, будто намереваясь съесть — ее упругие, полные губы разжались, но только для того лишь, чтобы прильнуть к моим губам таким страстным и крепким поцелуем, что я потерял всякое ощущение реальности. Твердые груди не прогибаются под моей тяжестью, я ощущаю, как их оконечности входят в мое тело, будто гвозди… Меня пронзило чувство такого неописуемого, острого наслаждения, что я проснулся.
В комнате было светло. Около кровати стоял, наблюдая за мной, отец. Я лежал на своем пуховом одеяле, полуодетый, все еще во власти неведомого мне дотоле чувства. Я видел отца, видел, что он пристально смотрит на меня, но, не отрешившись еще от своего волшебного сна и будучи не в состоянии овладеть собой, жарко и сладострастно прошептал: «Дора! Ах, Дора!»
Отец подошел к кровати и осторожно укрыл меня. Укрыл, вполне понимая, что со мной произошло, а я сгорал от стыда и блаженно улыбался. Он погладил меня. Из глаз моих ручьем хлынули слезы. Он сел с краю постели, подле меня; руки у него дрожали.
— Ну вот, видишь, — прошептал он, — видишь, ты уже совсем взрослый. Я вошел к тебе, потому что ты стонал. Решил, что у тебя температура. Мама ни о чем не знает, — И неожиданно, наклонясь к моему уху, спросил:
— Чем все-таки была для тебя Дора Ганзелинова?
Я не успел ничего до конца осознать и чувствовал себя совершенно обезоруженным, открытой книгой, которую легко прочесть. Отрицать что-либо было бесполезно. Отец словно все сам знал заранее, а мне оставалось лишь подтвердить это. Сопротивляться не имело смысла.
— Я так любил ее, папа!
Весь трепеща, я рассказал ему, как сильно меня влекли к ней ее женственность, ее стройное, исполненное тайны молодое тело. Отец задавал краткие вопросы в тоне сострадательного судьи, и я признался ему во всем. Как застал ее с фокусником у Безовки, в какое отчаяние это меня повергло, как убегал я на кладбище, как горько было мне узнать, что она встречалась там со своим любовником, и, наконец, рассказал, как она, допытавшись, что я проник в ее тайну, сделала меня посыльным своей любви. То, что произошло у Ганзелиновых, моя вина, — с горечью исповедовался я. Если бы я не промолчал, побег бы не состоялся, на картонном диске не произошло бы изменений, имя маленькой Эммы не оказалось бы вписанным туда. Отец расхаживал взад-вперед по комнате. К моему удивлению, он улыбался. Он совсем не был сердит, мягко и даже с лукавством посмеивался надо мной. Он высоко держал голову, он был счастлив, в то время как я заливался слезами.
— Ну, — радостно воскликнул он, — слава богу! Слава богу! — Глаза его сияли. — Ты просто не представляешь, мальчик, как я рад, что нынче ночью тебе плохо спалось. Не случись этого, я, верно, никогда бы и не узнал истинную причину твоих страданий. А теперь я могу тебе помочь. Слышишь ли, могу тебе помочь!
Тут он сделался серьезным.
— Дорогой Эмиль, не берусь утверждать, хорошо ты себя вел или плохо. Трудно сейчас судить об этом. То, что ты хранил чужую тайну, поступок, по-своему, честный, но последствия, как видишь, оказались для тебя тяжелыми. Хочешь ли ты следовать моим советам? Поверишь мне? — Он повернулся ко мне, ожидая ответа. Я слабо кивнул. — От тебя потребуется определенное мужество. Тебе следует признать свою вину. Этот жестокий экзамен будет твоим очищением. Необходимо обо всем откровенно рассказать Ганзелину.
Я вздрогнул от ужаса.
— Да ну, не бойся же! Будь тверд. Поверь, нельзя уклоняться от исполнения своего долга. Пройдя через это, ты снова станешь таким, как прежде. Понимаешь? Уверяю тебя, ты вновь станешь таким, как был.
— Но, папа, — оборонялся я, — он на меня до смерти рассердится и никогда этого не простит! Он меня любил, верил мне, а теперь я потеряю и его доверие, и любовь!
— Разве тебя прельщают любовь и доверие, основанные на лжи? — с неподдельным удивлением посмотрел на меня отец. — То, что достается тебе не по праву, равнозначно украденному. В конце концов, доктор Ганзелин, хоть и чудаковат, но человек разумный. Может, и не рассердится. Однако я не хотел бы внушать тебе особых иллюзий. Ведь если заранее предположить, что он простит, то для такого шага вовсе и не требуется никакого геройства. Ну, как? Дай мне руку и обещай, что завтра ты это исполнишь. Вот единственное лекарство для твоей больной души — иного я не знаю.
Вот как вышло, что я дал слово. Был точно в дурмане. Предстоящий мне завтра тяжелый визит решительно отвлек меня от любовных сновидений. Ночь я провел без сна. Отец сидел у моей постели, ожидая, пока я успокоюсь. Не дождался. Такими и застало нас обоих — помятыми, бледными — новорожденное летнее утро.
Читать дальше