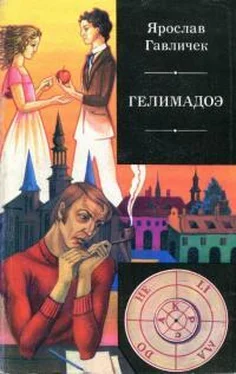Взявшись за ручку двери, ведущей в амбулаторию Ганзелина, я испытывал такое чувство, будто должен подвергнуться болезненной операции. Впрочем, и этим еще не все сказано. Предложи мне кто-нибудь в ту минуту взять мои душевные муки в обмен на телесные, я с радостью согласился бы, хотя никаким героем не был: пломбирование зубов было для меня неслыханной мукой, а перевязку самого пустякового пореза я не мог перенести иначе, как испуская стоны и покачивая пораненную конечность.
В амбулатории были доктор и Лида — единственный человек, чье присутствие я вполне мог бы стерпеть во время своей исповеди, но перестроиться уже не мог, поскольку заранее заготовил первую фразу и теперь, ступив на порог, был не способен сказать что-либо иное. Поэтому, запинаясь, попросил Ганзелина уделить мне немного времени, чтобы я — с глазу на глаз — мог ему сообщить нечто важное.
— Ты — и нечто важное? — спросил он, в изумлении уставясь на меня. — Что случилось? Ты являешься ко мне по какому-то важному делу? И если я правильно тебя понял, при этом даже Лида присутствовать не имеет права?
Я поспешно кивнул и немедля изрек вторую заученную фразу, логически вытекающую из первой:
— Это важно, по крайней мере, для меня… Папа знает о том, что я к вам пошел, и одобряет это…
Лида не стала ждать приказа отца. Она отошла от шкафчика, у которого перетирала медицинские инструменты, и неслышно скрылась за дверью. Доктор спросил, в чем состоит то сверхважное дело, о котором осведомлен даже мой уважаемый отец.
— Такие мальчики, как ты, обыкновенно не имеют секретов, которые возбранялось бы слышать третьему лицу.
— Пан доктор, — с неимоверным усилием произнес я. — Я перед вами виноват и пришел просить у вас прощения. Быть может, вы не простите меня, но я больше не могу молчать о том, что уже долгое время мучает меня. Я знал, — тут я проглотил застрявший в горле комок, — я давно знал, что барышня Дора встречается с этим… фокусником… Я сам их два раза застал вместе, но не сказал вам. Но и это еще не все, — торопливо, с храбростью, рожденной отчаянием, прибавил я, заметив, что Ганзелин хочет что-то возразить, — они переписывались, а я был посвящен в тайну и даже сам передавал им их письма, которые они прятали поочередно в дупле вашей старой яблони, той, что перевешивается через плетень, у Безовки.
— Вот как, — промолвил доктор. — Вот как!
Он не казался рассерженным. Пожалуй, был даже спокоен. Но мне было не до того, чтобы улавливать его настроение. Главное, что я с этим разделался! Опустив голову, я ждал приговора. Ганзелин, засунув руки в карманы брюк, расхаживал по амбулатории; фалды халата свивались у него сзади в длинный белый трепещущий хвост.
Внезапно он остановился передо мной и взглянул так строго, что у меня потемнело в глазах.
— Почему же ты, зная обо всем, не сказал мне вовремя? Только говори правду — почему?
— Я не сказал вам потому, — ответил я, заливаясь краской, — что я любил барышню Дору. С превеликой радостью готов был сделать все, что она ни пожелает.
Доктор разразился демоническим хохотом, — как сатана, которому удалось застигнуть праведника в момент грехопадения. Под конец закашлялся.
— Это хорошо, — сурово продолжал он, — просто замечательно, что ты готов был сделать для нее все, что бы она ни приказала… Очевидно, тем самым ты хочешь сказать, что был влюблен в нашу Дору?
— Да, — серьезно, с сокрушенным сердцем подтвердил я, глядя ему прямо в глаза. Большего позора для себя я уже не в состоянии был вообразить и преисполнился глубокого равнодушия ко всему, что могло произойти дальше. Пускай теперь Ганзелин бранит меня, пускай хоть на куски разорвет, — мне это совершенно безразлично.
— Соображаешь ли ты вообще, глупый мальчишка, что несешь? — закричал он на меня. — И ты признался в этом своему отцу?
— Да, — апатично ответил я, — и он послал меня к вам, чтобы я все рассказал.
— Для тебя это, разумеется, тяжкое испытание, — уже несколько спокойнее заключил Ганзелин.
Я молчал, видя, что возразить нечего.
— Ах, парень, парень, — говорил доктор, уже совсем смягчившись, — вот ты изложил тут мне все по-писаному, как посоветовал твой папа, образец чиновничьей честности (скрытая усмешка), и теперь ожидаешь приговора. А понятно ли тебе, что грехи подобного рода вообще не подлежат прощению?
Я растерянно кивнул головой.
— А твой отец, разумеется, хорошо сознавал, что посылает сына прямо в логово льва! Он, вероятно, предупредил тебя, что, быть может, я, ввиду твоего искреннего раскаяния, прощу предательство? Ну, отвечай! Либо остерег, что, возможно, легко это не сойдет?
Читать дальше