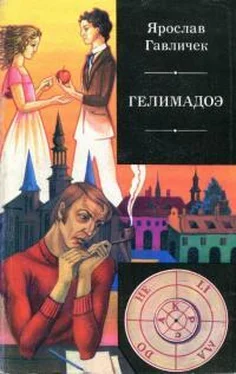Эмма… Мне кажется, она умерла. Она была такая слабенькая, худенькая, такая болезненная и бледная! Изнурительный труд, навязанный ей картонным кругом, наверняка быстро подорвал ее невеликие силы. Либо вышла замуж и живет, как все люди, своими маленькими радостями и горестями; может, у нее есть дети и остальные Гелимадонны дождались потомка — племянника или племянницу, которых в свое время хотели получить из рук Доры? Гелена… Не могу себе представить ее еще более старой и увядшей, чем она была. Мариины фиолетовые круги под глазами превратились, верно, в глубокие, изборожденные морщинами ямы, а Лида — куда уж быть еще молчаливей? Так что докторовы домочадцы скорее всего уподобились сообществу страшных призраков. Если бы в один прекрасный день я появился у них, они вышли бы приветствовать меня как редкого, чужого им и не слишком желанного гостя. Вряд ли я ошибаюсь, — мне известно, как бывает в жизни. Они бы просто не поверили моим рассказам о том, что каждая из них на прощание поцеловала меня увядшими губами, что они были со мной на «ты», что они дразнили меня и запрягали в работу. Стереоскоп с африканскими видами — на какую свалку он попал? В качестве чего служит Ганзелиново зубоврачебное кресло, из которого уже тогда вылезали проржавевшие пружины?
Как-то я, возвращаясь со службы, шел по Праге. Только что открылась весенняя ярмарка, и на Карловой площади плотными рядами стояли палатки, карусели, качели, кукольный театрик, паноптикум, болгарин с турецким медом, прилавки с кружевами и с фарфором. В тесном пространстве между каруселью для малышей и такой же ветхой каруселью с облезлыми лошадками, возле бедняги, зарабатывавшего свой хлеб тем, что он показывал мельничное колесо, приводимое в движение белыми мышами с красными глазками, я заметил толпу людей и услышал хриплый голос испытанного предсказателя судеб. Не знаю, что заставило меня остановиться. На расшатанном стуле сидела женщина с завязанными глазами, а мужчина с испитой физиономией показывал предметы, которые чумазые мальчишки повытаскивали из своих карманов.
— Можете ли вы, медиум, сказать, что это такое?
— Перочинный ножик! — ответила медиум печальным, бесцветным голосом. Я не стал смотреть дальше, а, круто повернувшись, ринулся прочь, будто бежал от чего-то страшного. Не надо мне этого зрелища. Что, если тот убогий голодранец — волшебник из моей молодости, а растерявшее последние иллюзии существо, что сидит, бессильно опустив руки на колени, — моя прелестная Дора с алым пухлым ртом и бархатными глазами?
Я не допускаю и мысли, чтоб это были они. Разве мало подобных привидений бродят еще из города в город, от ярмарки к ярмарке, с вечно пустым желудком и дырявым карманом? Довольно, что я лицом к лицу столкнулся с карикатурой на то, чем был зачарован в далеком детстве, чем в течение целого года жизни была забита голова, так что ни для чего другого там не оставалось места, — и о чем я вначале столь искренне и мучительно тосковал.
Все вянет, все умирает. Мой отец с колбасками кайзеровских усов, детскими восторженными глазами смотревший на возникновение нового государства, пожил очень недолго: болезнь подтачивала его и скоро свела в могилу. Мать превратилась в ветхую старушку; она живет одиноко, ходит, постукивая палочкой, за покупками и прогуливает на поводке омерзительную разжиревшую собаку, какие бывают только у старых женщин. Тридцать лет! Они способны измять нежную молодую кожу, избороздить ее морщинами, стать кровавыми убийцами, да еще из года в год плодить новые надежды и новые разочарования. Другие дети на месте меня лакомятся другими сладостями и упиваются другими волшебными зрелищами. И утром, и вечером горизонт прочерчивают самолеты; то, что было некогда моими кошмарными снами, стало обыденным явлением, которому не дивится даже крестьянин из самого глухого медвежьего угла. Как нечто вполне привычное под облаками, куда прежде взмывали одни только жаворонки, рокочет мотор диковинной птицы. Люди стремительней передвигаются, интенсивней живут, быстрее стареют, яростнее ненавидят. Вслед за прежними катастрофами надвигаются новые, мир корчится в схватках, рождая лучшее будущее.
На этом фоне — не считает ли читатель, что я бесцеремонно навязываю ему свои сумбурные, смешные воспоминания, разбуженные плеском волн и лучами июльского солнца? Не лучше ли было бы разорвать и сжечь эти листки, где не найти ни одного из тех утешительных слов, которые с такой алчностью проглатывает наш больной век, где не содержится выводов, которые хотели бы увидеть представители тех или иных политических партий?
Читать дальше