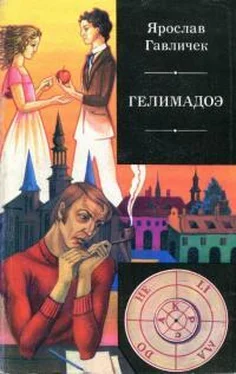Как-то раз я присутствовал на сеансе гипноза. Пожилой господин на сцене играл детским шариком и плакал, когда у него шарик отняли, — он верил, что ему всего еще седьмой годик. Две дамы, сидя в креслах, усердно гребли, устремив напряженный взгляд к потолку, — они полагали, что в утлой лодке плывут по морю, а надвигается буря. Таких забавных номеров в программе было много, однако меня сейчас занимает лишь один: гипнотизер, поставив несколько человек в ряд, на расстоянии нескольких шагов от них провел пальцем черту и затем предложил им ее перейти. Это не удалось никому. Они подбегали и падали, натолкнувшись на невидимую стену. Публика каталась со смеху. Зрелище было уморительное.
Предрассудки, преданность семье, привычка к послушанию, страх перед неизвестным — вот та заколдованная черта, которую не умели перейти женщины, страстно мечтавшие об иной доле. Тогда… И сегодня. А собственно, о какую преграду они ушибались? О ровное место, о пустоту, способную лишь рассмешить веселящуюся публику. Бедные овечки, усыпленные коварным гипнотизером, общественным мнением! Как много их в испуге, понурив голову, вернулись к своей жалкой кормушке! Некоторым все-таки удалось вырваться. Дора — в их числе. С победным смехом перешагнула она воображаемую черту. Пошла за своей фата-морганой, за серебристыми морскими волнами, за белоснежными барашками, разбивающимися о голубые берега. Но один жестокий вопрос по-прежнему остается разрешить: что же оказалось за той чертой? Вольные просторы? На самом ли деле звучали там небесные арфы? И сколь долго?
Не знаю. Распахнув клетку затворнице-птице, мы видим ее лишь краткий миг, пока она, взмыв, не растворится в небесах. Наше сердце преисполнено сладостного волнения. Однако нам не угадать, что обретет на воле наш мятежник, какая ему улыбнется судьба и какая его поджидает смерть. Да и не наше это дело — заглядывать дальше, чем следует. Удовольствуемся отрадным сознанием того, что распахнутая клетка означает счастье. Во все века люди будут верить в это счастье. Стоит им утратить свою веру, как с лица земли исчезнет золотая волшебная краина свободы.
Понятно, отчего плеск волн и пение окарины подвигли меня на то, чтобы я взял перо и сделал его выразителем своего элегического настроения.
Движение вод сходно с бегом времени: одинаково голова кружится, когда глядишь на стремительное течение или думаешь об увядании, о старости. Как же подле безостановочного движущегося потока не вспомнить молодые годы? А раковина, вылепленная из глины, издающая незатейливые и печальные звуки, — не само ли это наше далекое детство, не его ли трогательный голос?
На окарине может играть лишь мечтательный самоучка, и раз уж он играет, взялся за инструмент, значит — его гложет тоска. Под плеск волн может размышлять о молодости тоже лишь неисправимый мечтатель, имеющий привычку неустанно оглядываться назад и не способный ступить твердой ногой в будущее, ибо он вечно находится в плену у прошлого. Думаю, все мы — и те, кто одержим мечтой, и те, кто любит размышлять о быстротечном времени — в некотором роде братья и сестры. Мы, грезящие на берегу и играющие на грубом инструменте — одна семья! Я сам только для того и предпринял путь вверх по крутому склону, что воочию хотел увидеть бродягу-оборванца и убедиться, а не похож ли он на меня и не так ли чутки и трепетны его пальцы, перебирающие пять дырок, как некогда мои?
Чувство, привязавшее меня к Доре, не было ни простой любовью, ни подсознательным влечением подростка, жаждавшего ощутить женские объятия, вдохнуть возбуждающий запах плоти. Тут было нечто еще: роднящая обоих устремленность к неизведанному и романтическому, склонность к дешевым эффектам, переживаниям, мечтам о скитальчестве. Другого какого-нибудь мальчишку не приманила бы она так легко бессмысленным набором магических слов, другой не был бы заворожен фантастичностью разнородных понятий, нанизанных на стереотипы. Позднее я часто ловил себя на том, что с азартом сам с собой играю в эту нелепую игру. Ореховая скорлупка, подвешенная на цепи, бильярдный кий в руках марионетки, скелет, играющий в домино! В юности, подсаживаясь одинокими ночами к столу и при свете лампы, в папиросном дыму складывая первые свои стихи, исполненные чувства неразделенной любви, разве не пережил я, в сущности, то же самое? К счастью, стихи, бредовые, как сон, мрачные, как смерть, никогда не увидели света. На конструкции избитых форм и рифм я накладывал позолоту мыслей, развешивал пестрые лоскутки причудливых метафор, пел о заведомо несбыточных надеждах. И снова повторялась заманчивая и бессмысленная игра в слова, подобная вращению калейдоскопа, где одни и те же стекляшки складываются в разных сочетаниях: синее в соседстве с розовым, затем с оранжевым, наконец, с траурным черным. Но мы встряхиваем игрушку и начинаем все с начала. Мы, салонные фокусники.
Читать дальше