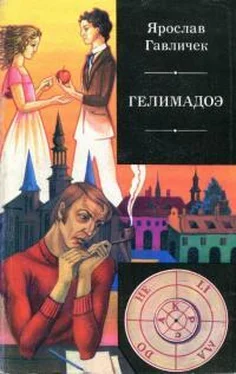Я поплелся на улицу, однако во дворе, вместо того, чтобы пройти в калитку, свернул в сад.
— Куда ты, милок? Позабыл уже, где у нас выход? — деланно засмеялась Гелена.
Я смутился. Правда, я сперва решил хоть на мгновение заглянуть в сад, где пережил столько волшебных минут, но теперь это стало почему-то невозможно. Мне хотелось зайти в конюшню погладить лошадку, посмотреть на кроликов, встающих в клетках на задние лапки, на голубей, что ворковали под крышей. Было горько, что всего этого я не смогу сделать, не смогу со всеми ними попрощаться.
Я направился к калитке; Мария, Гелена и Лида шли за мной, как при выносе покойника. В последний раз оглянувшись на окна амбулатории, я увидел там одного лишь Ганзелина. В тот момент он вынимал из цветка свою трубку и, сунув ее в уголок рта, начал развязывать кисет.
Я бежал по деревенской площади и чем дальше от нее удалялся, тем сильнее росло у меня нежелание возвращаться домой. Начнутся всякие глупые расспросы… Однако все обошлось. Дома никого не оказалось, кроме Гаты. Она предложила мне на полдник кофе. Я, понятно, его отверг. Прошел в свою комнату, сел у окна и так просидел до самых сумерек. Внизу, под крепостными валами, виднелся больничный сад, в котором мелькали полосатые халаты. Ясновидящая… Мнемотехника… Цифры и магические слова. Кладбище с затерянной могилой. Все это теперь оставляло меня равнодушным. С горестным недоумением спрашивал я себя: это и есть прощание? И это — все?
Ничего, однако, уже не удалось изменить. Никогда уже ничего изменить не удастся.
Эмма не выходила у меня из ума. Она стояла передо мной, оправляя на голове свою новую прическу, шепча: «Я уже взрослая». Лидин поцелуй с его кожаным привкусом горел на моей щеке.
После ужина я попросил у родителей позволения пойти ненадолго погулять. Мать разрешила с условием, что я скоро вернусь.
Я шел — нет, я летел к Безовке. Уже темнело. Спотыкаясь о корни верб, о камни, попадавшиеся в траве, я вскоре очутился за садом Ганзелиновых. Там все еще лежала спиленная ветка яблони. Срез уже подсох, листочки свернулись. Я пошарил в знакомом, греховодном дупле. По моему пальцу вполз на рукав жук-щелкунчик, суматошно забегал взад-вперед. Я глубже запустил руку в дупло — там не было ничего, кроме древесной трухи.
…Я сидел на траве, обняв руками колени и положив на них голову. Покачивался из стороны в сторож ну, точно факир, стремящийся достичь состояния блаженного забытья. «Дора, — шептал я, — Дора!» Но теперь это был всего лишь пустой звук. Всеми фибрами души я ощущал: Эмма! Эмма! Моя детская любовь! Мое выздоровление представлялось мне теперь величайшей несправедливостью судьбы. Почему я тогда не умер? Зачем Ганзелин вылечил меня? Я мечтал о рае, где поблизости от меня стояла бы младшая дочка Ганзелина и вратенская дева Мария приветливо глядела бы на нас.
И вдруг меня осенило: да ведь я же не побывал там на прощанье. И на змеиной тропке не был, в чимелицком лесу не побродил, но горше всего — не посидел у вратенского родника! Мне хотелось услышать аромат ночных фиалок. Они, быть может, еще цветут. Однако сегодня уже поздно. Всюду я опоздал. Столько времени было у меня в последний месяц, а я не воспользовался им! Все ушло на тупые, бесплодные думы о Доре. Ох, Дора! Теперь, вспоминая августовские события, свое смятение, свой грешный сон, я испытывал неописуемое отвращение.
Эмма! Я с трудом набирал воздуху, будто у меня сузилось дыхательное горло. Но все-таки удержался от слез. И я тоже стал взрослым.
Незаметно сгустилась тьма. На небе, мерцая, сияли звезды. Меня охватил страх — как долго я сижу тут? Мать напустится с упреками: «Тебе нельзя верить, я позволила выйти ненадолго, а ты даже в последний день умудрился меня расстроить…» Я тяжело оторвался от земли, словно был деревом и выдирал из нее свои корни.
Трава была влажной. Журчала Безовка. Контуры городка казались очертаниями погруженного во тьму Вифлеема, где погас извечный свет.
Когда я торопливо шел вдоль покосившихся заборов наверх, к деревенской площади, откуда-то донесся тоскливый, протяжный звук. Это плакала окарина.
«Та-та-та, та-та-та», — неумолчно стучат колеса. Мы уезжаем из Старых Градов. Мимо окон проносится холодная утренняя земля. Над лугами пеленою висит туман, горы подобны спустившимся с неба тучам. Солнце кровавыми брызгами окропило горизонт. Сжавшись в своем уголке, я не мог оторвать глаз от этой однообразной картины: хатенки, морщинистые склоны, геометрические фигуры полей, заборы из прогнивших досок, изгороди из обгоревших еловых жердей. Напротив меня сидит побледневшая мать. Она ежеминутно роется в сумочке и нюхает одеколон. Подле нее, выпучив глаза и стиснув на коленях кулаки красных, точно обваренных рук, Бетка. Она пугается каждого свистка, и вздрагивает всякий раз, едва поезд прибавит скорости. Та-та-та, та-та-та — едем! Все вокзалы одинаковы, на каждой станции, будто перед пунктом метеослужбы, стоит на перроне фигурка в синей форме и красной фуражке. Одинаковые деревянные мосты над путями, одинаковая пряжа то прямых, то прогнувшихся проводов. Едем, едем, едем! Навстречу другой жизни, другим событиям, навстречу новому, неведомому — все дальше, дальше от вчерашнего дня!
Читать дальше