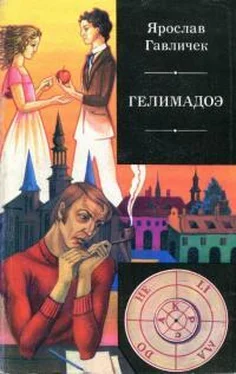Этим обстоятельством, конечно, все неприятно осложнилось. Сестры церемонно приветствовали меня, а я чувствовал себя не в своей тарелке. Бормотал что-то, заикался, весь красный как рак, от их похвал по поводу моего нарядного вида, от притворного всплескивания руками и закатывания глаз. На меня вдруг напала такая тоска, что в пору бы убежать вниз, в сад, забиться куда-нибудь и горько заплакать. Мне стало ясно, что сегодня я присутствую здесь в ином качестве, что ко мне относятся иначе, нежели в минувшие времена и что происходит нечто совершенно не свойственное нашим истинным взаимоотношениям.
Прощание приняло форму убогой помпезности. Я был не в состоянии произнести ни одного искреннего, живого слова; Гелена с комическим поклоном подала мне руку и подвела к столу, будто почетного гостя. Куда подевалась свойственная ей развязность, ее приятельская болтовня, которую я с таким трудом переносил, но без которой просто не мог себе представить Гелену? Мария улыбалась несколько натянуто. Кажется, она была искренне огорчена, но не знала, какое выражение придать лицу, чтобы разрядить обстановку. И Лида, неулыбчивая Лида, тоже пыталась улыбаться. Боже, к чему эта чопорность, непривычные церемонии, попытка устроить официальные проводы? Я понимал, что выпал из их круга. Явились ли виною те две недели, когда я не приходил к ним? Или непреложный теперь факт отсутствия здесь человека, сильней всего привлекавшего меня сюда? С горечью думал я, что лучше бы мне не приходить.
— Какая у него великолепная прическа, — заметила Гелена с оттенком язвительности.
— И как чудно пахнет, — меланхолически добавила Мария.
Эммы нигде не было видно. Я спросил о ней. Мне ответили, что Эмма сегодня дежурит по амбулатории, что, как всегда в эти дни, она воспользовалась отцовским послеобеденным отдыхом и где-нибудь бродит.
— Впрочем, она скоро вернется! Ты еще увидишься с ней!
Поразительно, что Гелена не сконфузилась, говоря мне «ты». Но все-таки неожиданно поперхнулась на этом фамильярном обращении.
Мария, тщательно вытерев руки о подол, взяла со стула мою шляпу и повесила ее на вешалку. Мой расфранченный вид, без сомнения, сильно навредил мне.
— Что желает молодой господин? Кофе или шоколад? — услужливо спросила Лида. Я опять вспыхнул, не готовый к тому, чтобы меня здесь потчевали. Мне ничего не хотелось, но и отказаться было невозможно. Я выбрал кофе только потому, что кофе, на мой взгляд, больше соответствует их скромному домашнему укладу.
Я сидел за столом между смущенными сестрами. Сейчас это видится мне как старая картинка из детского журнала: крохотный мальчик-с-пальчик стоит на столе перед изумленными дочерьми великана, которые скалят на него в улыбке свои страшные зубы. Сестры задавали мне множество вопросов касательно моего отъезда и моей будущности, а я им вежливо отвечал. Мне стало жарко. Снять хотя бы отвратительный синий пиджак и сдернуть душивший меня воротничок! Но они мне этого не предложили, видно, не желая нарушить приличия.
Когда на стол был поставлен кофе, а вместе с ним неразрезанный пока кулич с маком, мои страдания достигли апогея. Напиток был такой горячий, что я до волдырей обжег нёбо. Я весь взмок, рубашка прилипла к телу. Настроение мое соответственно ухудшалось с каждой минутой.
— Ты к нам совсем охладел, — посетовала Гелена, а я весь сник от меткого замечания. — Неужто тебе не грустно, что мы уже никогда не увидимся?
— Почему же никогда, Гелена? Так уж и никогда? — словно бы заученно возразила Лида. — Он наверняка соберется как-нибудь приехать, посмотреть на нас!
Я горячо уверял, что приеду, заведомо зная, что это ложь, что уже не преодолеть мне возникшего чувства взаимного отчуждения.
Ганзелин вошел, когда я меньше всего этого ожидал. Весь распаренный, я выбрался из-за стола и двинулся ему навстречу, стряхивая крошки кулича и торопливо дожевывая последний кусок. Доктор шел, заложив руки за спину, широко распахнутые полы халата реяли позади него, под застегнутым на верхнюю пуговицу черным пиджаком выпирал живот. На щеках его горели красные пятна — это был отсвет улыбки, предназначенной для торжественного приветствия.
Я отвесил ему глубокий поклон, как ученик, пришедший с поздравлениями. Сказал, понемногу смелея, что вот, мол, пришел со всеми проститься, что хорошо сознаю, сколько добра выказывали мне он сам и его дочери, что буду всю жизнь хранить благодарную память о том, как самоотверженно он выхаживал меня во время моей болезни. Потом, — не вполне логично добавил я к этому патетическому заявлению, — мне всегда было исключительно приятно приходить сюда, и без них всех я буду очень скучать.
Читать дальше