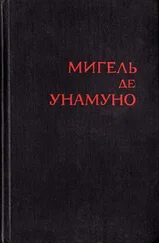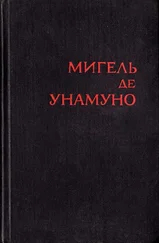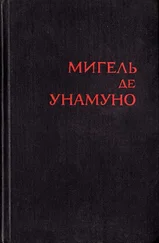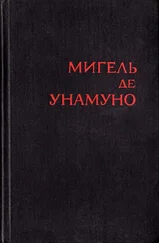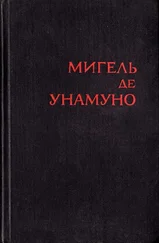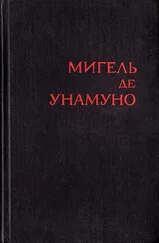И тут, осмелев, я выпалила:
– А если бы он вам их нашептал, дон Мануэль?
– Кому, мне? Дьявол-то? Мы с ним не знаемся, девочка, мы с ним не знаемся!
– А если все-таки?
– Я слушать бы не стал. И хватит, слышишь, давай кончим, потому что меня ждут настоящие больные.
Я пошла домой и дорогой думала, сама не знаю почему, что наш дон Мануэль, прославленный целитель тех, кто одержим дьяволом, в дьявола не верит. И по дороге повстречался мне Бласильо-дурачок, вертевшийся возле храма, и при виде меня, чтобы сделать мне приятное своим искусством, он воспроизвел – и как! – все тот же вопль: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» Я пришла домой в величайшем смятении и заперлась у себя в комнате, чтобы выплакаться, но тут пришла матушка:
– Ты так зачастила на исповедь, Анхелита, уж не собралась ли в монашки?
– Не опасайся, матушка, – отвечала я, – мне и здесь хватит дела, наша деревня – вот мой монастырь.
– Покуда замуж не выйдешь.
– Об этом я не помышляю, – возразила я.
И, встретившись с доком Мануэлем в следующий раз, я спросила, глядя ему прямо в глаза:
– Дон Мануэль, а существует ад?
Он же мне в ответ без запинки:
– Для тебя, девочка? Нет.
– А для других?
– Не все ли тебе равно, раз ты туда не попадешь?
– Не все равно из-за других. Существует он?
– Ты в небо верь, небо мы видим. Погляди-ка.
И он показал мне высь над горою и ее отражение в озере.
– Но ведь надо верить в ад, как веришь в небо, – возразила я.
– Да, надо верить во все, чем учит нас святая мать наша Католическая Апостольская Римская Церковь. И довольно!
Я прочла глубокую и неведомую грусть в глазах его – голубых, как воды нашего озера.
Те годы прошли как сон. Образ дона Мануэля занимал все больше места у меня в душе, хотя сама я этого не замечала, потому что человек он был такой же вседневный, такой же насущный, как хлеб, которого просим мы у Бога, когда читаем «Отче наш».
Сколько могла я помогала ему в трудах, навещала его больных – наших больных – девочек-школьниц, приводила в порядок покровы и облачения и вообще состояла при нем в дьяконицах, как он меня прозвал. По приглашению одной подруги я на несколько дней поехала в город, но сразу же вынуждена была вернуться, потому что в городе я задыхалась, мне не хватало чего-то, потребность видеть воды нашего озера была как жажда, потребность видеть уступы нашей горы – как голод; но самое главное – мне не хватало дона Мануэля, словно бы он звал меня издалека, словно бы вдали от меня он подвергался опасности, словно я была ему нужна. Во мне уже зарождалось чувство материнской нежности к моему духовному отцу, мне хотелось облегчить тяжесть креста, возложенного на него с рождения.
Так дожила я до двадцати четырех лет, когда вернулся из Америки с прикопленным капитальцем брат мой Ласаро. Он приехал к нам, в Вальверде-де-Лусерну, с намерением увезти нас с матушкой в город, возможно даже в Мадрид.
– В деревне, – говорил брат, – человек тупеет, грубеет и беднеет.
И он добавлял:
– Цивилизация – противоположность деревенского застоя. Никакой буколики, не для того я посылал тебя в пансион, чтобы ты прозябала в глуши среди неотесанного мужичья.
Я слушала молча, хотя и полна была решимости воспротивиться переселению; но матушка наша, которой в ту пору перевалило за шестьдесят, восстала с первых же слов: «Не в мои годы менять гнездо», – сказала она для начала, но потом ясно дала нам понять, что не может жить там, где не будет ее озера, ее горы, а главное – ее дона Мануэля.
– Вы обе, точно кошки, привязаны к дому! – твердил брат.
Когда же Ласаро заметил, какую власть над народом всей деревни, а среди прочих и над нами обеими, забрал дон Мануэль – его негодование перешло на нашего святого. Брат увидел в нем пример мрачного засилья Церкви, в котором, по его мнению, коснела Испания. И он стал без отдыху сыпать избитыми общими местами антиклерикального толка – более того, антирелигиозного и прогрессистского, – которые привез обновленными из Нового Света.
– Исконное зло Испании – в мужском безволии, – говорил брат, – здесь священники верховодят женщинами, а женщины – мужчинами… Да вдобавок деревенский застой, застойная испанская деревня, насквозь феодальная!..
Для Ласаро «феодальный» было самое страшное слово; «феодальный» и «средневековый» были два эпитета, которые пускал он в ход, когда хотел выразить крайнюю степень осуждения.
Читать дальше